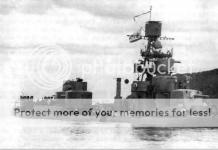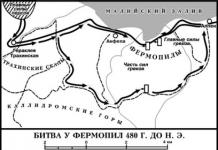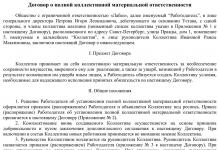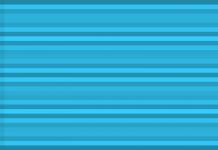Товарищу СТАЛИНУ.
Товарищу ЕЖОВУ.
О результатах проверки письма тов. Шолохова на имя товарища Сталина.
В своем письме на имя товарища Сталина тов. Шолохов выдвигает против работников НКВД Ростовской области ряд обвинений, которые в основном сводятся и следующему**:
1. Группа работников УНКВД Ростовской области создавала и продолжает создавать ложные дела на честных и преданных советской власти людей.
«Сотни других коммунистов, посаженных врагами партии и народа, до сих пор томятся в тюрьмах и ссылке» (из письма т. Шолохова).
2. В органах НКВД Ростовской области к арестованным применяются физические насилия и длительные допросы, толкающие арестованных на путь оговаривания неповинных людей и приписывания себе преступлений, ими не совершенных.
«Надо покончить — писал т. Шолохов — с постыдной системой пыток, применяющихся к арестованным».
3. Против тов. Шолохова подбирались ложные материалы и распускались провокационные слухи с единственной целью его скомпрометировать.
«В такой обстановке, какая была в Вешенской, невозможно было продуктивно работать, но и жить было безмерно тяжело. Туговато живется и сейчас. Вокруг меня все еще плетут черную паутину враги» (из письма т. Шолохова).
В своем письме т. Шолохов требовал пересмотреть следственные дела за 1937 и 1938 гг., освободить из-под стражи невинно осужденных и привлечь к ответственности работников УНКВД по Ростовской области, повинных в этих преступлениях.
тов. Шолохов писал:
«Надо тщательно проверить дела осужденных по Ростовской области в прошлом и нынешнем годах, так как многие из них сидят напрасно».
«...Невиновные сидят, виновные здравствуют и никто не думает привлекать их к ответственности».
С целью проверки фактов, приведенных в письме т. Шолохова, мы выехали в г. Ростов, где ознакомились с материалами на указанных лиц, арестованных в Вешенской станице.
Нами было выяснено, что за 1937 г. и начало 1938 г. всего в Вешенском районе арестовано 185 человек, в том числе 133 белогвардейца (большинство из них кулаки, участники Вешенского контрреволюционного восстания в 1919 г. и реэмигранты) и 52 кулака, ранее судившихся за контрреволюционную деятельность (из них 18 чел. арестованы как участники право-троцкистской организации).
В станице Вешенской мы говорили с т. Шолоховым по вопросам, затронутым в его письме. Мы спросили его, настаивает ли он на проверке всех дел арестованных и осужденных по кулацко-белогвардейской операции, произведенной в 1937—1938 г. г.
Тов. Шолохов ответил, что считает не нужным это делать так как он не берет под сомнение все произведенные в Вешенском районе аресты. Но он назвал фамилии следующих лиц дела которых он считал бы нужным проверить: Слабченко, Каплеев, Лимарев, Шевченко И., Тютькин, Шевченко К., Махотенко, Худомясов, Гребенников, Чукарин, Кривошлыков.
Кроме того секретарь Райкома ВКП(б) т. Луговой к этому списку добавил следующих лиц: Сидорова, Бокова, Дударева, Конкина, Кузнецова, Точилкина и Мельникова.
Ввиду того, что дела всех этих лиц, о проверке которых просили т.т. Шолохов и Луговой, находились в УНКВД по Ростовской области, а сами арестованные содержались — частью в Каменской и Миллеровской, а частью в Ростовской тюрьмах, то для проверки этих дел мы выехали в Ростов. Для допроса мы вызывали из тюрем арестованных и лично ознакомились с их делами.
1. Кто и за что арестован.
В результате наших передопросов арестованных и проверки их следственных дел установлено следующее.
1. ГРЕБЕННИКОВ С.И. — бывш. член ВКП(б). До ареста работал директором Колундаевской МТС. Основанием для ареста Гребенникова послужила его связь с разоблаченным врагом народа Сабушем, бывш. зав. ОкрЗУ Северо-Донского округа, который в своих показаниях называл Гребенникова участником контрреволюционной организации.
На передопросе Гребенников подтвердил t что в организацию он действительно был завербован Сабушем и подтвердил ранее данные им показания о своей антисоветской деятельности.
2. КОНКИН И.И. — кулак, белогвардеец, участник Вешенского контрреволюционного восстания в 1919 году, в 1932 г. арестовывался за контрреволюционную агитацию и был осужден на 3 года. После отбытия наказания, вернулся на хутор Черновский и вступил в колхоз «Донской хлебороб», где работал до ареста бригадиром.
Арестован он за вредительство в колхозе: заразил клещем 1800 центнеров хлеба и сгноил 200 центнеров проса.
Конкин на передопросе не отрицал, что в колхозе погибло это количество хлеба, но заявлял, что это было допущено не с вредительской целью: были дожди. По делу он уличается во вредительстве свидетельскими показаниями и актами комиссий, проверявшими работу колхоза.
3. ТОЧИЛКИН А.М. — участник вешенского контрреволюционного восстания в 1919 году , белогвардеец, реэмигрант. Судился в 1925 году за грабеж. До ареста работал сторожем колхоза «Донской хлебороб».
Арестован за расхищение социалистической колхозной собственности (украл 63 центнера хлеба). На передопросе Точилкин виновным себя не признал, но он уличается свидетельскими показаниями и актами комиссий, проверявшими работу колхоза.
4. МЕЛЬНИКОВ И.Е. — до революции семья была кулацкой. 2 брата у него арестованы как враги. До ареста работал бригадиром колхоза «Донской хлебороб».
Обвиняется в том, что вредительски провел уборку урожая 1937 года, допустил потраву 4-х га подсолнуха и погноил 20 га пшеницы. На передопросе виновным себя признал, и уличается свидетельскими показаниями.
5. КУЗНЕЦОВ А.П. — до ареста работал завхозом колхоза «Донской хлебороб». Отец его бывший кулак, арестован за контрреволюционную деятельность.
Обвиняется Кузнецов в том, что будучи завхозом колхоза, сорвал строительство навесов для намолоченного зерна, в результате чего по его вине значительная часть урожая погибла.
По просмотренному нами делу полностью уличается свидетельскими показаниями и актами комиссий, проверявших работу колхозов
.
6. ДУДАРЕВ
— кандидат партии, служил в Красной армии. До ареста работал председателем колхоза «Донской хлебороб».
По материалам следственного дела обвинялся в том, что создал в колхозе вредительскую группу, в которую завербовал Кузнецова, Точилкина, Мельникова, Шульгина и Конкина и с их помощью проводил вредительство в колхозе
— посеял 416 га недоброкачественными семенами, не обеспечил гумна навесами, сгноил много намолоченного зерна
.
Тов. Шолохов по этому делу нам заявил, что якобы арест Дударева связан с делом т. Лугового. Но мы выяснили, что в следственном материале этого ничего нет. Поводом же для такого заявления т. Шолохова было выступление б. начальника районного отделения НКВД т. Тимченко, который на общем собрании колхоза «Донской хлебороб» заявил, что Дударев вредил по указанию Лугового. Проверив следственные материалы и передопросив Дударева, мы установили, что его арест не связан был с делом Лугового.
По существу же его дела мы считаем, что из всей группы арестованных он произвел на нас впечатление честного человека, он отсидел уже 9 месяцев, и поэтому мы его решили освободить.
Остальные же лица, арестованные в этом колхозе — белогвардейцы и кулаки — Конкин, Точилкин, Мельников, Шульгин и Кузнецов, арестованы правильно.
7. ЛИМАРЕВ П.Т. — бывш. член ВКП(б), бывш. зав. орготделом Вешенского райкома ВКП(б), до ареста работал председателем Морозовского Райисполкома.
Основанием для ареста Лимарева послужили показания арестованных, изобличавших его в том, что он совместно с Луговым вербовал участников в антисоветскую организацию. Впоследствии это обвинение отпало, но Лимарев не был освобожден потому, что арестованный Косилов (бывш. зам. председателя Крайисполкома Азово-Черноморского края) дал показания о нем, как об участнике организации. Приводим показания Косилова:
«Повстанческую работу в районах возглавляли: в Морозовском — председатель РИК’а Лимарев, в Колгужинском — секретарь райкома Ховрин и председатель РИК’а Плугов. Этих троих человек в организацию правых завербовал лично я в 1935».
Мы подробно ознакомились с этим делом, передопросили Косилова, провели очную ставку между Лимаревым и Косиловым, на которой Косилов подтвердил ранее данные им о Лимареве показания.
Вопреки тому, что на прямо поставленный Косилову вопрос, — не оговаривает ли он Лимарева, — Косилов заявил, что дает правдивые показания, у нас все-таки сложилось мнение, что мы имеем дело с оговором, ибо показания Косилова неконкретны и в них есть противоречия. Мы поэтому поверили Лимареву и освободили его.
Нижеперечисленных лиц, указанных т. Шолоховым, нам опросить не удалось.
Часть из них осуждена по первой категории***, или находятся в лагерях. Поэтому пришлось ограничиться только проверкой их следственных дел.
В результате ознакомления с делами установлено следующее:
1. СИДОРОВ В.В.
— отступал с белыми, судился по ст. III УК РСФСР, до ареста работал председателем колхоза «Новый путь».
Обвинялся в том, что являлся одним из руководителей контрреволюционной повстанческой группы на хут. Антиповском, которая в 1936—37 г. г. подготовляла повстанческие кадры и вербовала людей. На очной ставке с Антиповым, белогвардейским офицером, который завербовал Сидорова в повстанческую группу, Сидоров себя виновным признал. Кроме того, он уличался 15 свидетельскими показаниями .
2. ХУДОМЯСОВ М.Е. — бывш. управделами Вешенского райкома партии. Арестован, как участник троцкистской организации. Изобличен показаниями Алферова А. И., белогвардейца реэмигранта и свидетелями Немудрякиным и Пересалченко. На следствии Худомясов показал:
«В 1934 г. я установил связь с троцкистами в районе с Николаенко, который был уполномоченным райкома ВКП(б) и с Худомясовым — бывш. пред. колхоза им. Фрунзе. Николаенко и Худомясов давали мне прямые указания вредительски сеять по сорнякам и с огрехами. Среди колхозников они вели троцкистскую агитацию, а я им в этом помогал.
Сблизившись с Худомясовым, я ему в одной из бесед рассказал о своей контрреволюционной работе среди казаков. Худомясов одобрил мою работу и сказал: «Хорошо, что мы нашли друг друга, интересы у нас одни, будем работать вместе».
Ввиду того, что в показаниях Алферова есть ссылка на связь Худомясова с Луговым и Логачевым (освобожденными после установления ложности доноса на них) необходимо для проверки этих данных Худомясова вызвать из лагеря.
3. КРИВОШЛЫКОВ М.С. — белогвардеец, участник контрреволюционного восстания в Вешенской в 1919 году. До ареста работал в колхозе «Путь к социализму».
Обвинялся в том, что систематически проводил среди колхозников антисоветскую агитацию, высказывал повстанческие настроения и распространял клевету на руководителей партии и советского правительства. Виновным себя признал и уличается показаниями арестованного Шашаева и свидетелями Попова, Аникина и Кочетова.
По этому делу, в связи с заявлением Кривошлыкова (на имя секретаря райкома т. Лугового) о том, что он оговорил себя и на него клевещут, мы считаем, что его тоже надо вызвать для допроса.
4. СЛАБЧЕНКО И.И. — белогвардеец, исключен из ВКП(б) в 1937 году за сокрытие службы в белой армии. До ареста работал директором свиносовхоза «Красный колос».
Слабченко арестован как организатор контрреволюционной повстанческой группы, вел антисоветскую агитацию, Слабченко виновным себя не признал, но уличается показаниями арестованных Корешкова-Коршикова, Шевченко, Меркулова, Демина и очными ставками с ними и, кроме того, тремя показаниями свидетелей.
5. ШЕВЧЕНКО И.Г. — сын кулака, в августе 1937 года был исключен из ВКП(б) за скрытие социального происхождения и троцкистское выступление в 1927 году, которое он также скрывал.
Связавшись с Слабченко, знал от него о существовании в Кашарском районе троцкистской организации и поддерживал контрреволюционную клевету, распространяемую Слабченко против партии и ее руководителей.
6. КАПЛЕЕВ П.М. — бывш. член ВКП(б), работал заведующим Вешенской конторой Заготзерно.
Арестован за вредительство в системе Заготзерно. Каплеев показал, что он был связан с участником троцкистской организации Северо-Донского округа Пономаревым — управляющим окружной конторой Заготзерно и под его непосредственным руководством проводил вредительство.
«Перед майскими праздниками 1937 г. Пономарев, обозленный арестами членов троцкистской организации дал мне задание загазировать большими дозами хлорпикрина продовольственное зерно, которое подлежало передаче на макаронную фабрику для переработки. Я это задание выполнил».
«...Я вместе с приемщиками занимался хищением зерна». (Из показаний Каплеева).
7. БОКОВ Г.А. — в 1935 г. судился за перегибы и был присужден к 4-м годам лишения свободы, до ареста работал помощником шофера в колхозе им. Буденного.
Арестован, как активный участник действовавшей на Дону контрреволюционной казачьей повстанческой организации. Боков виновным себя не признал, но уличается показаниями Филимонова (кулак, белогвардеец, реэмигрант, судился в 1930 г. за к.-р. деятельность), который показал, что он завербовал Бокова в 1936 году в контрреволюционную организацию.
8. ЧУКАРИН В.А. — кулак, сын хуторского атамана, служил в белой армии с 1918 по 1920 г. урядником, до ареста работал председателем Черновского сельсовета.
Обвинялся в том, что создал на хуторе Черновском из лиц, служивших ранее в белой армии, контрреволюционную группу, которая вела повстанческую деятельность на территории Черновского сельсовета.
Виновным себя признал и, кроме того, уличается арестованными участниками этой группы Синякиным, Абакумовым, Фроловым и тремя свидетельскими показаниями.
9. МАХОТЕНКО И.Е. — кулак, белогвардеец, до ареста работал завхозом «Заготскот».
Обвинялся в том, что являлся участником контрреволюционной повстанческой группы, вел антисоветскую агитацию среди казаков и стоял на пораженческих позициях.
Виновным себя признал и уличается показаниями Лимана и Сукова, который завербовал Махотенко в повстанческую группу.
10. ШЕВЧЕНКО К.П. — до ареста — директор Лесопитомника Басковского района.
Арестован, как участник право-троцкистской организации. Шевченко на следствии показал:
«Я являлся членом контрреволюционной организации правых, которая работала в контакте с троцкистами. В организацию я был завербован в 1934 г. директором Карлиновской МТС Басковского района Негродовым».
Кроме того, Шевченко признался, что работая в колхозе «Ленинский путь» и «Красное знамя», организовал расхищение 116 центнеров хлеба и вредительски проводил сев.
2. Как проводилось следствие в отношении передопрошенных нами
арестованных.
Для проверки той части заявления т. Шолохова, где говорится, что органы НКВД Ростовской области применяют к арестованным физические меры воздействия, — мы специально допросили арестованных Лимарева, Тютькина, Дударева, Кузнецова, Мельникова, Точилкина, Гребенникова и Громославского.
Ни один из опрошенных нами не показал, чтобы над ними в какой-либо фор ме применялось физическое насилие . На наш вопрос Дудареву, сколько времени продолжался его допрос, он сначала ответил — «очень долго», мы предложили уточнить, тогда он заявил: «на допросе был целых три часа». Это он считает уже «насилием»!
3. Кто и как организовывал травлю т. Шолохова.
В своем письме т. Шолохов писал, что против него ведут травлю. Для того, чтобы проверить это, мы просили его назвать факты, кто конкретно занимается этой травлей.
Тов. Шолохов нам заявил, что он сейчас этот вопрос и не ставит и не считает нужным об этом вести следствие. Он только просил проверить правильность ареста Тютькина, который по имеющимся
у
него сведениям арестован за отказ
дать материал на него, Шолохова. Кроме того, т. Шолохов просил проверить заявление Благородова о Сидорове, которое было приложено к его письму на имя тов. Сталина. Тов. Шолохов также считал необходимым проверить неправильные действия тов. Тимченко в бытность его начальником Райотделения НКВД в Вешенском районе.
Эти факты мы проверили.
Дело Тютькина.
Мы вызвали Тютькина из Миллеровской тюрьмы, т. Тимченко из Цимлянского района и проверили все это дело.
Откуда т. Шолохов получил сведения о неправильности ареста Тютькина? Отец арестованного член партии Тютькин сообщил т. Шолохову, что до ареста его сын Тютькин А., работавший секретарем Вешенского Райотделения НКВД, ему рассказал, что начальник этого Райотделения Тимченко подбирает материалы на т. Шолохова. Через некоторое время после этого разговора с отцом А. Тютькин был арестован.
Из ознакомления с следственным делом и допроса Тютькина А. мы установили, что он арестован был по двум обвинениям: 1) на основании показания арестованного Миллеровским Горотделением Дударева (бывш. преподавателя), что Тютькин за 50 рублей снял его с комсомольского учета, подделав учетную комсомольскую карточку и 2) на основании заявления гр-на Зимовного, что Тютькин во время работы зам. секретаря райкома комсомола на лекции в колхозной школе для взрослых восхвалял Гитлера.
Тютькин подтвердил, что только эти два обвинения были пред’явлены ему на следствии, при чем обвинение в подделке учетной карточки отпало. И в просмотренном нами деле не было указаний на обвинение, связанное с подбором материалов на т. Шолохова.
Мы спросили Тютькина, что он передал отцу о подборе материалов на т. Шолохова. Тютькин нам заявил, что он действительно говорил, что на т. Шолохова подбирается в Райотделении НКВД материал, но что к его делу и пред’явленному ему обвинению это не имеет никакого отношения; на следствии его об этом не допрашивали и что этот вопрос перед ним ставится впервые.
Но при очной ставке с т. Тимченко, Тютькин заявил, что когда он работал в Райотделении НКВД, Тимченко ему задавал вопросы о Луговом, спрашивал, знает ли он о вредительской деятельности в районе. Тимченко все это отрицал, что он таких вопросов ему не задавал. Кто из них прав — бывший начальник Райотделения НКВД т. Тимченко, или арестованный Тютькин, — сказать трудно!
Мы считаем установленным, — это подтвердил нам также т. Тимченко, — что Тютькин арестован не за отказ от подбора материалов на т. Шолохова, а за восхваление Гитлера
. Арестован он был Миллеровским Горотделом НКВД, когда уже т. Тимченко не работал в Вешенском районе.
По поводу обвинения его в восхвалении Гитлера, Тютькин заявил, что показание на него гр-на Зимовного неверно.
Из материалов дела видно, что Тютькин преподавал политграмоту в колхозной школе и во время одной своей лекции привел недопустимую аналогию между тов. Сталиным и Гитлером , заявив, что у нас в стране гениальный человек тов. Сталин, а в Германии — у фашистов — Гитлер, что мы под руководством тов. Сталина боремся против фашизма, а фашисты, руководимые Гитлером, борятся против нас.
Учитывая, что обвинение в подделке учетной карточки не подтвердилось, а приведенная в лекции недопустимая аналогия была допущена Тютькиным не в результате злого умысла, а об’ясняется его недостаточной политической грамотностью, мы нашли возможным Тютькина из-под стражи освободить .
Следующий факт, связанный с вопросом о травле т. Шолохова, — это заявление гр. Благородова , которое было приложено к письму т. Шолохова.
Суть заявления Благородова заключается в том, что он, Благородов, разоблачает колхозника Сидорова, по заданию райотделения НКВД, распространявшего клевету на т. Шолохова, который, якобы, знал, что среди участников приезжавшего в Москву казачьего хора, были террористы, ставившие своей целью убийство тов. Сталина.
С целью проверки этого заявления нами, в присутствии тов. Шолохова, были опрошены Сидоров, Благородов и свидетели Мазанов, Калинин и Бондарева. Мы провели также очные ставки Благородова с Сидоровым и с свидетелями.
На очной ставке с Благородовым — Сидоров категорически отрицал выдвинутое против него обвинение, заявляя, что Благородов сводит с ним личные счеты, потому что он — Сидоров выступал против отца Благородова (бывш. владельца мельницы, ныне работающего мельником на этой же мельнице), с обвинением в краже хлеба с мельницы, а также выступал против Громославского (брата жены т. Шолохова), работающего зав. школой на хуторе Черновском, защищавшего этого мельника.
Благородов, настаивая на своем заявлении, выдвинул против Сидорова ряд обвинений, характеризуя его как развратника и пьяницу. В процессе очной ставки выяснилось, что сам Благородов развратничает совместно с Сидоровым. Характерно отметить, что в день вызова их на допрос Благородов и Сидоров друг с другом по- приятельски выпивали.
На очной ставке Благородов заявил, что свидетелями его разговора с Сидоровым о Шолохове являются колхозники Бондарева, Мазанов и Калинин. Он предупредил нас, что свидетельница Бондарева не подтвердит правдивость его слов, потому что она является кумой Сидорова. В ответ на это Сидоров резонно заявил, что она одновременно является кумой и Благородова.
Вследствие того, что Сидоров заявление Благородова не подтвердил, мы опросили свидетелей, на которых ссылался Благородов.
Свидетель Мазанов при первом опросе подтвердил правильность заявления Благородова, но после очной ставки с Сидоровым заявил, что он оклеветал Сидорова и сделал это по настоянию Благородова.
Подтвердил заявление Благородова и свидетель Калинин, но показания его не заслуживают доверия, так как Калинин быв[ший] белогвардеец и к тому же признался на допросе, что до последнего времени скрывал, что он — сын хуторского атамана.
Для более детальной проверки заявления Благородова мы вместе с т. Шолоховым выехали на Хутор Черновский и опросили еще ряд свидетелей.
Бондарева, на которую ссылался Благородов, рассказала нам о Сидорове следующее. В прошлом он был беспризорным, затем батрачил на том же хуторе, во время молотьбы ему оторвало руку. Назвала она Сидорова человеком верным советской власти, что на хуторе на него наклеветали за то, что он, будучи председателем ревкомиссии колхоза, правильно выступал против отца Благородова — кулака-мельника и против учителя Громославского — родственника т. Шолохова, который прикрываясь именем последнего, незаконно использовал для личных нужд две коровы и две лошади, принадлежавших колхозу. Она же нам рассказала, что настоящая фамилия Благородова — Молчанов, во время ареста его отца кулака он был тоже арестован, но бежал из-под ареста и после побега жил на персидской границе и там достал себе подложные документы на имя Благородова.
Другие колхозники, с которыми мы беседовали в этом колхозе, также полностью подтвердили характеристику, которую дала Бондарева Сидорову и Благородову.
Возвратившись в станицу Вешенскую, мы вторично допросили Благородова. Подтвердилось, что его настоящая фамилия действительно Молчанов и переменил он ее незаконно, когда скрывался на персидской границе после побега из-под ареста в 1933 г.
На допросе Благородов — Молчанов проговорился, что заявление на Сидорова он писал по инициативе и совместно с учителем хутора Черновского Громославским.
В результате детальной проверки заявления Благородова выяснилось, что распространяет клевету о т. Шолохове не Сидоров, а проходимец и жулик Благородов- Молчанов, который использовал колхозные собрания для распространения клеветы о т. Шолохове.
Перед отъездом из Вешенской мы спросили т. Шолохова, следует ли продолжать дальше следствие по вопросу о его «травле» со стороны Сидорова. Тов. Шолохов на это нам ответил, что для него теперь вполне ясно лицо Благородова кулацкого сынка и жулика и просил считать вопрос об этом заявлении исчерпанным.
Третий факт, который мы расследовали — это о роли тов. Тимченко .
На протяжении всего письма, т. Шолохов неоднократно упоминает фамилию начальника райотделения НКВД т. Тимченко, как одного из основных инспираторов травли против него.
Вызванный в связи с этим т. Тимченко был нами опрошен по существу заявления т. Шолохова. В своем объяснении т. Тимченко сообщил, что обвинение его в травле тов. Шолохова ни на чем не основано, так как в действительно[сти] до дня своего от’езда из Вешенской с т. Шолоховым они находились в приятельских отношениях, часто бывали друг у друга в гостях.
Таковы результаты проверки заявления т. Шолохова по вопросу о травле его со стороны т. Тимченко. Из материалов, которые мы проверили, не видно, чтобы он проводил какую-либо травлю против т. Шолохова.
Во время нашего пребывания в Вешенской т.т. Шолохов и Луговой передали нам полученные ими 17 заявлений осужденных и просили их проверить. В результате проверки этих заявлений выяснилось, что заявителями являются:
1. КРИВОШЛЫКОВ — кулак, реэмигрант, бывш. белогвардеец, изобличается в антисоветской деятельности двумя свидетелями и одним обвиняемым.
2. ЕГОРОВ И.Я. — кулак, участник белогвардейского восстания на Дону, белогвардеец, в 1936 г. судился за убийство. В антисоветской деятельности изобличается тремя свидетелями и одним обвиняемым.
Аналогичными являются и другие заявители, кроме двух, Худомясова и Петрова, дела в отношении которых нуждаются в дополнительной проверке.
Перед самым от’ездом из Вешенской т. Шолохов попросил нас проверить обоснованность ареста его родственника — второго брата его жены — Громославского В.П., содержащегося в Каменской тюрьме. Об этом Громославском в своем письме т. Шолохов не упоминал.
По нашему указанию Громославский был привезен из Каменской тюрьмы в Ростов и нами передопрошен.
ГРОМОСЛАВСКИЙ является сыном станичного атамана, до и после революции был служителем религиозного культа: в 1916 г. был псаломщиком, а с 1920 по 1929 год — дьяконом. В 1930 г. был осужден по ст. 59, п. 10 УК, но в 1932 году освобожден по кассации. Обвиняется в том, что вел среди рабочих совхоза «Красный колос» антисоветскую агитацию, распространял клевету на партию и ее руководство.
Громославский виновным себя не признает, но уличается 6-ю свидетельскими показаниями и 4-мя очными ставками, в которых приводятся конкретные факты его антисоветской деятельности.
Свидетель рабочий БУКАРЕВ показывает, что в его присутствии Громославский, по поводу приговора над участниками право-троцкистского блока говорил, что сейчас гибнет много ни в чем неповинных людей.
Свидетель СЕРЛЮКОВ приводит факт, когда Громославский выступал с открытой враждебной клеветой на т. Сталина. Свидетель КОНОВАЛОВ говорит, что Громославский восхвалял фашистов, которые, мол, все равно победят в Испании, так как по силе с фашистами никто не может сравняться.
Но Громославский все эти показания отрицает.
ВЫВОДЫ.
В результате расследования фактов, изложенных т. Шолоховым в его письме, установлено:
1. Заявление т. Шолохова об арестах большого количества невинных людей, в том числе лиц, арестованных по оговору в связи с делом Лугового, Логачева и Красюкова, не подтвердилось. Имели место лишь отдельные ошибки, которые мы исправили (дела Лимарева, Дударева, Тютькина).
2. Проведенный нами допрос целого ряда людей, указанных т. Шолоховым (Дударева, Гребенникова, Конкина, Мельникова, Точилкина и др.), а также проверка их следственных дел показали, что арест названных лиц не был связан с делом т. Лугового, Логачева и Красюкова. Арестованы они были по показаниям других лиц.
3. В результате допроса арестованных (Лимарева, Тютькина, Дударева, Кузнецова, Мельникова, Точилкина, Гребенникова и Громославского) не подтвердилось также заявление т. Шолохова, что будто бы к арестованным в органах НКВД Ростовской области применяются методы физического воздействия.
4. Не подтвердилось и заявление т. Шолохова о том, что со стороны районного отделения НКВД против него была организована травля. Нами установлено, что заявление на Сидорова состряпано врагом Молчановым-Благородовым с единственной целью — дискредитировать т. Шолохова. Тов. Шолохов в этом убедился сам при допросе Молчанова.
5. Но несомненным остается одно, что поводом для заявления т. Шолохова по вопросу о травле против него послужил тот факт, что во время ареста т. Лугового, Логачева и Красюкова (теперь реабилитированным) в Райотделении НКВД и среди отдельных работников района действительно велись разговоры такого характера, что т. Шолохов был очень близок к арестованным и как это он мог проглядеть их.
6. Что же касается вопроса о привлечении к ответственности работников Вешенского и Миллеровского отделений НКВД т.т. Сперанского, Тимченко и Кравченко, то мы считаем, что делать это нецелесообразно. У этих работников НКВД были отдельные ошибки в их работе, но в данное время они за свои ошибки наказаны т. Ежовым. Тов. Сперанский переведен тов. Ежовым на работу в Колыму, а т. Тимченко переброшен в другой район и ему сделаны указания на допущенные ошибки. А тов. Кравченко, который работал незначительное время в Вешенском районе, мы считаем нецелесообразным его привлекать к ответственности.
7. Для перепроверки следственных дел на Худомясова, Петрова и Кривошлыкова, мы считаем необходимым вызвать их из лагеря.
23/V-38 г.
Шкирятов
Цесарский
* На документе красным карандашом рукой А. Поскребышева написано: От тт. Шкирятова и Цесарского».
** Здесь и далее текст подчеркнут А. Поскребышевым.
***Осуждение «по первой категории» значило расстрел.
1
Цесарский В.Е. - в марте-мае 1938 г. начальник
IV
отдела Главного управления НКВД СССР, в мае-сентябре 1938 г. начальник УНКВД по Московской области, с 13 сентября 1938 г. начальник Ухта-Ижемского лагеря.
Оригинал взят у
22 сентября 2015, 01:12 Переписка Сталина и Шолохова о раскулачивании
Переписка Сталина и Шолохова о раскулачивании
Станица Вешенская
т. Сталин!
Вешенский район, наряду со многими другими районами Северо-Кавказского края, не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от голода колхозники и единоличники; взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями. Словом, район, как будто, ничем не отличается от остальных районов нашего края. Но причины, по которым 99% трудящегося населения терпят такое страшное бедствие, несколько иные, нежели, скажем, на Кубани. Прошлые годы Вешенский район был в числе передовых по краю. В труднейших условиях 1930-31 гг. успешно справлялся и с севом и с хлебозаготовками. О том, как парторганизация боролась за хлеб, красноречиво свидетельствуют цифры роста посевных площадей. Посевная площадь по колхозно-единоличному сектору: 1930 г.- 87571 гек., 1931 г.-136947 гек., 1932 г.-163 603 гек.
Прошлые годы Вешенский район был в числе передовых по краю. В труднейших условиях 1930-31 гг. успешно справлялся и с севом и с хлебозаготовками. О том, как парторганизация боролась за хлеб, красноречиво свидетельствуют цифры роста посевных площадей. Посевная площадь по колхозно-единоличному сектору: 1930 г.- 87571 гек., 1931 г.-136947 гек., 1932 г.-163 603 гек.
Как видите, с момента проведения сплошной коллективизации посевная площадь выросла почти вдвое. Как работали на полудохлом скоте, как ломали хвосты падающим от истощения и устали волам, сколько трудов положили и коммунисты и колхозники, увеличивая посев, борясь за укрепление колхозного строя,-я постараюсь-в меру моих сил и способностей-отобразить во второй книге “Поднятой целины”. Сделано было много, но сейчас все пошло насмарку, и район стремительно приближается к катастрофе, предотвратить которую без Вашей помощи невозможно. Комсомольцы извлекают зерно, спрятанное кулаками на кладбище 1 ноября 1930г. Украина
Комсомольцы извлекают зерно, спрятанное кулаками на кладбище 1 ноября 1930г. Украина
Вешенский район не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян не потому, что одолел кулацкий саботаж и парторганизация не сумела с ним справиться, а потому, что плохо руководит краевое руководство. На примере Вешенского района я постараюсь это доказать.
Но т. к. падающая кривая поступлений хл:) не обеспечивала выполнения плана к сроку, крайком направил в Вешенский район особого уполномоченного т. Овчинникова (того самого, который некогда приезжал устанавливать “доподлинную” урожайность)... Овчинников громит районное руководство и, постукивая по кобуре нагана, дает следующую установку: “Хлеб надо взять любой ценой! Будем давить так, что кровь брызнет! Дров наломать, но хлеб взять!”. Отсюда и начинается “ломание дров”... Установка Овчинникова-“Дров наломать, но хлеб взять!”-подхватывается районной газетой “Большевистский Дон”. В одном из номеров газета дает “шапку”: “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК И ЗАСЫПАТЬ СЕМЕНА!”. И начали по району с великим усердием “ломать дрова” и брать хлеб “любой ценой”.Раскулачивание Ю. А. Зайцева. Чебоксары. 1929-30-е гг.
К приезду вновь назначенного секретаря РК Кузнецова и председателя РИКа Королева по району уже имелись плоды овчинниковского внушения:
1) В Плешаковском колхозе два уполномоченных РК, Белов и другой товарищ, фамилия которого мне неизвестна, допытываясь у колхозников, где зарыт хлеб, впервые применили впоследствии широчайше распространившийся по району метод “допроса с пристрастием”. В полночь вызывали в комсод, по одному, колхозников, сначала допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки: между пальцев клали карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к проруби в Дону топить. Инспектор труда допрашивает кулака, Одесская область, 1929 год.
Инспектор труда допрашивает кулака, Одесская область, 1929 год.
2) В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрос.
3) В Лиховидовском колхозе уполномоченный РК на бригадном собрании приказал колхозникам встать, поставил в дверях вооруженного сельского, которому вменил в обязанность следить за тем, чтобы никто не садился, а сам ушел обедать. Пообедал, выспался, пришел через 4 часа. Собрание под охраной сельского стояло... И уполномоченный продолжал собрание.
 Жители с. Сергеевки Донецкой области возле церкви накануне ее подрыва, начало 1930-ых.
Жители с. Сергеевки Донецкой области возле церкви накануне ее подрыва, начало 1930-ых.
На первом же бюро РК новый секретарь РК поставил вопрос об этих перегибах. Было записано в решении бюро о том, что такие “методы” хлебозаготовок искажают линию партии. Об этом на другой день узнал Овчинников, приехавший из Верхне-Донского района (он работал особоуполномоченным по двум районам: Вешенскому и Верхне-Донскому), и тотчас же предложил секретарю РК: “О перегибах в решении не записывай! Нам нужен хлеб, а не разговорчики о перегибах. А вот ты с первых же дней приезда в район начинаешь разговоры о перегибах и тем самым ослабляешь накал борьбы за хлеб, расхолаживаешь парторганизацию, демобилизуешь ее!”.
И рассказал исключительно интересный случай из собственной практики; случай, по-моему, проливающий яркий свет на фигуру Овчинникова. Передаю со слов секретаря РК Кузнецова и ряда других членов бюро РК, которым Овчинников этот же случай рассказывал в другое время.
“В 1928 г. я был секретарем Вольского ОК Нижне-Волжского края. Во время хлебозаготовок, когда применяли чрезвычайные мероприятия, мы не стеснялись в применении жесточайших репрессий и о перегибах не разговаривали! Слух о том, что мы перегнули, докатился до Москвы... Но зато целиком выполнили план, в крае не на плохом счету! На 16 Всесоюзной партконференции во время перерыва стоим мы с т. Шеболдаевым, к нам подходит Крыленко и спрашивает у Шеболдаева: “А кто у тебя секретарем Вольского ОК? Наделал во время хлебозаготовок таких художеств, что придется его, как видно, судить”. “А вот он, секретарь Вольского ОК”,- отвечает Шеболдаев, указывая на меня. “Ах, вот как!- говорит Крыленко.-В таком случае, товарищ, зайдите после конференции ко мне”. Я подумал, что быть неприятности, дал телеграмму в Вольск, чтобы подготовили реабилитирующие материалы, но после конференции на совещании с секретарями крайкомов Молотов заявил: “Мы не дадим в обиду тех, которых обвиняют сейчас в перегибах. Вопрос стоял так: или взять, даже поссорившись с крестьянином, или оставить голодным рабочего. Ясно, что мы предпочли первое”. После этого Крыленко видел меня, но даже и словом не обмолвился о том, чтобы я к нему зашел!”... Собрание крестьян одного из колхозов по случаю подписания Государственного займа, Донецкая область, 1930-ые годы.
Собрание крестьян одного из колхозов по случаю подписания Государственного займа, Донецкая область, 1930-ые годы.
Естественно, что после истории с решением о перегибах РК закрыл глаза на все безобразия, которые творились в районе, а если в особо исключительных случаях и говорил по поводу перегибов, то так глухо, как из воды. Решения выносились больше для очистки совести, не для проработки на ячейках, а для особой папки, на всякий случай.
После отъезда Овчинникова в Верхне-Донской район работой стал руководить Шарапов.
О работе уполномоченного или секретаря ячейки Шарапов судил не только по количеству найденного хл:), но и по числу семей, выкинутых из домов, по числу раскрытых при обысках крыш и разваленных печей. “Детишек ему стало жалко выкидывать на мороз! Расслюнявился! Кулацкая жалость его одолела! Пусть, как щенки, пищат и дохнут, но саботаж мы сломим!”,-распекал на бюро РК Шарапов секретаря ячейки Малаховского колхоза за то, что тот проявил некоторое кол:)ие при массовом выселении семей колхозников на улицу. На бюро РК, в ячейке, в правлении колхоза, громя работавших по хлебозаготовкам, Шарапов не знал иного обращения, кроме как “сволочь”, “подлец”, “кусок слюнтяя”, “предатель”, “сукин сын”. Вот лексикон, при помощи которого уполномоченный крайкома объяснялся с районными и сельскими коммунистами. Пионеры собирают в поле колоски, г. Сталино, 1934 год.
Пионеры собирают в поле колоски, г. Сталино, 1934 год.
До чистки партии за полтора месяца (с 20 декабря по 1 января) из 1500 коммунистов было исключено более 300 человек. Исключали, тотчас же арестовывали и снимали со снабжения, как самого арестованного, так и его семью. Не получая хл:), жены и дети арестованных коммунистов начинали пухнуть от голода и ходить по хуторам в поисках “подаяния”...
Исключение из партии, арест и голод грозили всякому коммунисту, который не проявлял достаточной “активности” по части применения репрессий, т. к. в понимании Овчинникова и Шарапова только эти методы должны были давать хлеб. И большинство терроризированных коммунистов потеряли чувство меры в применении репрессий. По колхозам широкой волной покатились перегибы. Собственно то, что применялось при допросах и обысках, никак нельзя было назвать перегибами; людей пытали, как во времена средневековья, и не только пытали в комсодах, превращенных, буквально, в застенки, но и издевались над теми, кого пытали. Ниже я приведу краткий перечень тех “способов”, при помощи которых работали агитколонны и уполномоченные РК, а сейчас в цифрах, полученных мною в РК, покажу количество подвергавшихся репрессиям и количество хл:), взятого с момента применения репрессий. Раздача газет в совхозе "Коммунист", пгт Лозовая, Харьковская область, 1932 год.
Раздача газет в совхозе "Коммунист", пгт Лозовая, Харьковская область, 1932 год.
По Вешенскому району: 1) Хозяйств-13 813; 2) Всего населения-52 069; 3) Число содержавшихся под стражей, арестованных органами ОГПУ, милицией, сельсоветами и пр.-3128; 4) Из них приговорено к расстрелу-52; 5) Осуждено по приговорам Нарсуда и по постановлениям коллегии ОГПУ-2300; 6) Исключено из колхоза хозяйств-1947; 7) Оштрафовано (изъято продовольствие и скот)-3350 хозяйств; 8) Выселено из домов-1090 хозяйств.
Мне казалось, что это-один из овчинниковских перегибов, но в конце января или в начале февраля в Вешенскую приехал секретарь крайкома Зимин. По пути в Вешенскую он пробыл два часа в Чукаринском колхозе и на бюро РК выступил по поводу хода хлебозаготовок в этом колхозе. Первый вопрос, который он задал присутствовавшему на бюро секретарю Чукаринской ячейки,-“Сколько у тебя выселенных из домов?”. “Сорок восемь хозяйств”. “Где они ночуют?”. Секретарь ячейки засмеялся, потом ответил, что ночуют, мол, где придется. Зимин ему на это сказал: “А должны ночевать не у родственников, не в помещениях, а на улице!”. Раскулаченные крестьяне, с. Удачное, Донецкая область, 1930-ые годы.
Раскулаченные крестьяне, с. Удачное, Донецкая область, 1930-ые годы.
После этого но району взяли линию еще круче. И выселенные стали замерзать. В Базковском колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь ходила она но хутору и просила, чтобы ее пустили с ребенком погреться. Не пустили, боясь, как бы самих не выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери. Сама мать обморозилась. Женщину эту выселял кандидат партии- работник Базковского колхоза. Его, после того как ребенок замерз, тихонько посадили в тюрьму. Посадили за “перегиб”. За что же посадили? И если посадили правильно, то почему остается на свободе т. Зимин?
Число замерзших не установлено, т. к. этой статистикой никто не интересовался и не интересуется; точно так же, как никто не интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно: огромное количество взрослых и “цветов жизни” после двухмесячной зимовки на улице, после ночевок на снегууйдут из этой жизни вместе с последним снегом. А те, которые будут полукалеками. Но выселение-это еще не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хл:):
Но выселение-это еще не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хл:):
1. Массовые избиения колхозников и единоличников.
2. Сажание “в холодную”. “Есть яма?”.-“Нет”.- “Ступай, садись в амбар!”. Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия- январь, февраль. Часто в амбары сажали целыми бригадами.
3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили “Скажешь, где яма? Опять подожгу!”. В этом же колхозы допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос.
4. В Наполовском колхозе уполномоченный РК кандидат в члены бюро РК Плоткин при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а потом “прохладиться” выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плит и снова допрашивают. Он же (ПЛОТКИН) заставлял одного единоличника стреляться. Дал в руки наган и приказал: “Стреляйся, а нет-сам застрелю!”. Тот начал спускать курок (не зная того, что наган разряженный), и, когда щелкнул боек, упал в обмороке. 1930. Ставропольский край. Члены рабочей бригады изымают хлеб у кулаков
1930. Ставропольский край. Члены рабочей бригады изымают хлеб у кулаков
5. В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил всю бригаду (мужчин и женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стручок красного перца (горчицы) и не приказал выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работников агитколонны, командиром коей был кандидат в члены бюро РК Пашинский при допросах в штабе колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с керосином.
6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.
7. Там же: закатывали в рядно и топтали ногами.
8. В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за три километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказав бежать к хутору рысью. Трудящиеся ТОЗа им. Л. Красина отбирают имущество у раскулаченного крестьянина, Донецкая область, 1930-ые годы.
Трудящиеся ТОЗа им. Л. Красина отбирают имущество у раскулаченного крестьянина, Донецкая область, 1930-ые годы.
9. В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 человек демобилизованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику-подозреваемому в краже-во двор (ночью), после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал “огонь” по связанному колхознику. Если устрашенный инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделывали процедуру, предшествующую расстрелу.
9. (Нумерация нарушена Шолоховым.-Ред.) В Кружилинском колхозе уполномоченный РК КОВТУН на собрании 6 бригады спрашивает у колхозника: “Где хлеб зарыл?”. “Не зарывал, товарищ?”. “Не зарывал? А, ну, высовывай язык! Стой так?”. Шестьдесят взрослых людей, советских граждан по приказу уполномоченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение часа произносит обличающую речь. Такую же штуку проделал Ковтун и в 7 и в 8 бригадах; с той только разницей, что в тех бригадахон помимо высовывания языков заставлял еще становиться на колени.
10. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству. 11. В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом.
11. В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом.
12. В Верхне-Чирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую плиту, а потом избивали и выводили, босых же, на мороз.
13. В Колундаевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу. Обмороженных привезли в Базковскую больницу.
14. Там же: допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, били и допрашивали.
15. В Базковском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с полдороги возвращали, и так по нескольку раз.
16. Уполномоченный РО ОГПУ Яковлев с оперативной группой проводил в Верхне-Чирском колхозе собрание. Школу топили до одурения. Раздеваться не приказывали. Рядом имели “прохладную” комнату, куда выводили с собрания для “индивидуальной обработки”. Проводившие собрание сменялись, их было 5 человек, но колхозники были одни и те же... Собрание длилось без перерыва более суток. На фото: 18 Октября 1930 года, Свердловская обл., Серовский р-он, новый Гладковский поселок, скипидаровый з-д. Семья Гонцовых после раскулачивания по 2-й группе, находятся на спецпоселении (в ссылке).
На фото: 18 Октября 1930 года, Свердловская обл., Серовский р-он, новый Гладковский поселок, скипидаровый з-д. Семья Гонцовых после раскулачивания по 2-й группе, находятся на спецпоселении (в ссылке).
У мужиков одинаковые рубахи, видимо выдали централизованно, а барак стоит прямо на земле, без фундамента).
Слева направо: Февронья Степановна, Михаил Васильевич, Григорий, Алексей.
Текст на обороте: «Фрося смотри наминя на сестричку Фешу, что мне ниприйти сейчас к вам». (Ортография сохранена).


Примеры эти можно бесконечно умножить. Это-не отдельные случаи загибов, это-узаконенный в районном масштабе-“метод” проведения хлебозаготовок этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти “методы” на себе и после приходили ко мне с просьбами “прописать про это в газету”.
Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко “В успокоенной деревне”? Так вот этакое “исчезновение” было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч колхозников. Причем, как видите, с более богатым применением технических средств и с большей изощренностью.
Продовольственная помощь, оказываемая государством, явно недостаточна. Из 50 000 населения голодают никак не меньше 49 000. На эти 49 000 получено 22 000 пудов. Это на три месяца. Истощенные, опухшие колхозники, давшие стране 2 300 000 пудов хл:), питающиеся в настоящее время черт знает чем, уж наверное не будут вырабатывать того, что вырабатывали в прошлом году. Не менее истощен и скот, два месяца, изо дня в день, в распутицу возивший с места на место хлеб, по милости Шарапова и РК. Все это, вместе взятое, приводит к заключению, что план сева колхозы района к сроку безусловно не выполнят. Но платить-то хлебный налог придется не с фактически засеянной площади, а с контрольной цифры присланного краем плана. Следовательно, история с хлебозаготовками 1932 г. повторится и в 1933 г. Вот перспективы, уже сейчас грозно встающие перед вышедшими на сев колхозниками.
Если все описанное мною заслуживает внимания ЦК,- пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачить всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные “методы” пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это.
Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхне-Донском районах, нельзя. Только на Вас надежда.
Простите за многословность письма. Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу “Поднятой целины”.
АПРФ, ф. 45. oп. 1, д. 827, л. 7- 22. Подлинник.
 4. И. В. Сталин-М. А. Шолохову 16 апреля 1933 г.
4. И. В. Сталин-М. А. Шолохову 16 апреля 1933 г.
Молния
Михаилу Шолохову
Ваше письмо получил пятнадцатого. Спасибо за сообщение. Сделаем все, что требуется. Сообщите о размерах необходимой помощи. Назовите цифру.
16. IV .33 г. Сталин.
АПРФ, ф. 45, on. 1, д. 827, л. 23. Копия.
Молния
Станица Вешенская Вешенского района Северо-Кавказского края
Михаилу Шолохову
Ваше второе письмо только что получил. Кроме отпущенных недавно сорока тысяч пудов ржи отпускаем дополнительно для вешенцев восемьдесят тысяч пудов всего сто двадцать тысяч пудов. Верхне-Донскому району отпускаем сорок тысяч пудов. Надо было прислать ответ не письмом, а телеграммой. Получилась потеря времени.
22.IV.33 г. Сталин.
 АПРФ, ф. 45. on. 1, д. 827, л. 30. Копия.
АПРФ, ф. 45. on. 1, д. 827, л. 30. Копия.
Дорогой тов. Шолохов!
Оба Ваши письма получены, как Вам известно. Помощь, какую требовали, оказана уже.
Для разбора дела прибудет к вам, в Вешенский район, т. Шкирятов, которому-очень прошу Вас-оказать помощь.
Это так. Но это не все т. Шолохов. Дело в том, что Ваши письма производят несколько однобокое впечатление. Об этом я хочу написать Вам несколько слов.
Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите не плохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма-не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили “итальянку” (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих. Красную армию-без хл:). Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови),-этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели “тихую” войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов...
Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые как уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали.
Ну, всего хорошего и жму Вашу руку.
6.V. 33 г. Ваш И. Сталин.
АПРФ, ф. 3, oп. 61. д. 549. л. 194. Копия.

Дорогой т. Сталин!
Т-му Вашу получил сегодня. Потребность в продовольственной помощи для двух районов (Вешенского и Верхне-Донского), насчитывающих 92 000 населения, исчисляется минимально в 160 000 пудов. Из них для Вешенского района - 120 000 и для Верхне-Донского - 40 000. Это из расчета, что хлеба этого хватит до нови, т. е. на три месяца.
Разница в цифрах по районам объясняется тем, что Верхне-Донской район граничит с ЦЧО, откуда колхозники и добывают хлеб, имущие - меняя на барахло, неимущие - выпрашивая "Христа ради". Для верхнедонцев есть "отдушина", а Вешенский район ее не имеет. Пухлые и умирающие от голода есть и в Верхне-Донском районе, но все же там несравненно легче. Это я знаю и по личным наблюдениям и со слов секретаря Верхне-Донского РК т. Савуша.
Савуш считает, что до нови его району будет достаточно и 20 000 пудов. Но этот оптимистический подсчет не отвечает действительности уже по одному тому, что он построен на следующих основаниях: "Появилась зеленка, народ вышел на подножный корм, в июне работы меньше, следовательно, как-нибудь дотянем до косовицы...". Слов нет, не все перемрут даже в том случае, если государство вовсе ничего не даст. Некоторые семьи живут же без хлеба на водяных орехах и на падали с самого декабря месяца. А таких "некоторых" как раз большинство. Теперь же по правобережью Дона появились суслики и многие решительно "ожили": едят сусликов, вареных и жареных, на скотомогильники за падалью не ходят, а не так давно пожирали не только свежую падаль, но и пристреленных сапных лошадей, и собак, и кошек, и даже вываренную на салотопке, лишенную всякой питательности падаль...
Сейчас на полевых работах колхозник, вырабатывающий норму, получает 400 гр. хлеба в сутки. Но те из его семьи, которые не работают (дети, старики), ничего не получают. А много ли найдется таких, с закаменевшими сердцами, которые сами съедали бы эти разнесчастные 400 гр., когда дома - пухлая семья. И вот этакий ударник половину хлеба отдает детишкам, а сам тощает, тощает... Слабеет из дня в день, перестает выполнять норму, получает уже 200 гр. и под конец от истощения и всяческих переживаний ложится, как измученный бык, прямо на пахоте. Он уж не только работать, но и по земле ходить-то не может. Такие полутрупы с полей отвозят в хутора. А дома чем его голодная семья отпечалует?
Поэтому я считаю 120 000 пудов минимальной цифрой для Вешенского района и для Верхне-Донского - 40 000. В среднем на душу выйдет по два пуда с фунтами на три месяца. Подмешивая к муке всякие корешки, проживут и работать будут, как черти. А сейчас с выработкой беда. План ярового сева по Вешенскому району 134 750 гек. Сеют с 9 апреля. По плану кончить сев колосовых должны к 27 апреля. Посеяно же всего только 18 349 гек. По району осталось еще 6,5 тыс. гек. зяби. Кончат зябь, упрутся в весновспашку, и поползет кривая вниз. Если в прошлом году, когда начался массовый сев, колхозы района засевали в день 5000-6000 гек., то в этом году больше 1000 гек. еще не засевали за день.
Верхне-Донской район по плану должен засеять 91 000 гек., а засеял только около 17 000. Уже сейчас совершенно очевидно, что эти районы к сроку планы сева не закончат.
Плохо с севом и по Миллеровскому району, где благодаря необеспеченности семенами простаивают не трактора, а целые МТС. 22 марта я послал в "Правду" т-му о переброске семян в Миллеровский район. "Правда" телеграмму напечатала, снабдив ее заголовком "Результат непродуманной работы", а также с примечанием от редакции1. Бюро райкома 27 марта выносит решение по поводу этой т-мы. В решении говорится о том, что Вешенский и Верхне-Донской районы должны были перебросить по одной тысяче тонн пшеницы на Миллеровский элеватор еще за погоду, но благодаря тому, что районные работники проявили неповоротливость и нежелание организовать перевозку, своевременная доставка зерна была сорвана. В конце решения записано: "Отметить, что со стороны Шолохова сигнализации краевым организациям не было".
Решение это несколько странное, и вот почему:
1. Дело не в том, что районы "не хотели возить" и проявили непонятную неповоротливость. О каком "нехотении" можно говорить, когда речь идет о приказе крайпосевкома? Было вот как: в начале марта Вешенский РК получает телеграмму за подписями Гарина (зам. ПП ОГПУ) и Опова (крайзаготзерно) о том, чтобы колхозы района, на основании решений крайпосевкома, в течение пяти дней перевезли на Миллеровский элеватор 1000 тонн пшеницы.
При тогдашнем состоянии дорог нужно было все тягло, имеющееся в районе, бросить на перевозку. Причем колхозы должны были отправить подводы сначала на пристанские пункты (расстояние от 10 до 60 кил.), погрузить хлеб, а потом уже везти его на Миллерово (от пристанских пунктов до ст. Миллерово расстояние 165-190 кил.). РК послал т-му, прося об отмене решения о переброске, т. к. в противном случае район рисковал оставить все тягло по дорогам Миллеровского района. Спустя несколько дней была получена т-ма, подписанная секретарем крайкома Зиминым, подтверждающая прежнее решение. За это время наступила оттепель. Дороги стали непроездны. Угроза массовой, чуть ли не поголовной гибели скота встала во весь рост. (По плохой дороге на волах везти груз за 165-190 кил. было нельзя, потому что требовалось на такой прогон не меньше 12-15 суток; на этот срок завезти с собой корм скоту было невозможно, а добыть у миллеровцев, хронически страдающих от фуражной бескормицы, тоже нельзя.) Все же к перевозке приступили. Стали возить до ближайших колхозов Миллеровского района. В просовах2 начали ломать ноги волам и лошадям. В это же время возили из Вешенского района и миллеровцы, сотнями терявшие скот. В двадцатых числах марта колхозы Вешенского района самовольно прекратили перевозку, т. к. возить стало абсолютно невозможно, а 28 от т. Зимина была получена т-ма, разрешавшая перевозку прекратить... Промедление с началом переброски по Вешенскому району объяснялось не тем, что районные работники оказались вдруг неповоротливыми и "не захотели" возить, а тем, что хотели получить от крайкома санкцию на уничтожение скота, чтобы потом самим не отвечать за гибель его.
Что касается того, что я не сигнализировал краевым организациям, то это просто-таки смешно. Кому же было сигнализировать, крайпосевкому, который обязывал возить? Но ведь крайпосевкому уж наверное было известно расстояние от пристанских пунктов Вешенского района до Миллерова, точно так же, как известны были и состояние дорог и последствия для тягла, коему надлежало проделать от 350 до 400 кил. А расплачиваться за все это опять придется колхозникам. Вот уж воистину: "кому-кому, а куцему всегда вдоль спины!".
Примерно в это же время, когда миллеровцы ехали за хлебом в Вешенскую, а вешенцы везли хлеб в Миллерово, произошел курьезный случай, до некоторой степени характеризующий нравы и повадки высоких людей из края: хлеб, как я уже сказал, "катают" по дорогам, и вдруг в это самое время на имя секретаря Вешенского РК поступает "молния" от члена бюро крайкома Филова (он же редактор "Молота", он же особоуполномоченный по севу в Миллеровском, Вешенском и Верхне-Донском районах). "Молния" такого содержания: "Молнируйте Миллерово мое имя состояние дороги тчк. Можно ли проехать Вешенский район". Хлеб возить можно, а особоуполномоченному проехать порожнём нельзя... Из РК ответили, что дороги-де плоховаты, в просовах, но ехать можно. Однако Филов, как видно, убоялся дорожных лишений и прибыть не изволил...
Вы пишете, т. Сталин, "сделаем все, что требуется". А я боюсь одного: поручит крайком тому же Филову расследовать вешенские дела (ему уже однажды поручали такое), он и начнет расследовать, руководствуясь принципом: "сильного обходи, да не будешь сам бит". Ведь советовал же он однажды: "Овчинникова лучше не трогайте". Филов или подобный ему подхалим краевого масштаба ничего "не обнаружит" и не потому, что будет он от природы слеп, а потому что из опаски не захочет всего видеть. И получится так, что к ответственности будут привлечены только низовые работники, а руководившие ими останутся безнаказанными. Филов, находящийся сейчас в Вешенском районе, так примерно и заявил секретарю Вешенского РК: "По делу об извращении линии партии в Вешенском районе будут привлечены многие работники, а дело об Овчинникове будет выделено ввиду его болезни".
Так же как и продовольственная помощь, необходима посылка в Вешенский и Верхне-Донской р-ны таких коммунистов, которые расследовали бы все и по-настоящему. Почему бюро крайкома сочло обязательным выносить решения по поводу моей телеграммы о переброске семян, а вот по докладным запискам ответственных инструкторов крайкома и крайКК тт. Давыдова и Минина, уехавших из Вешенского р-на 31 марта и собравших по двум-трем колхозам огромный материал о грубейшем извращении линии партии, об избиениях и пытках, применявшихся к колхозникам, - до настоящего времени нет решения и крайком молчит? Как-то все это неладно. Кроме этого, есть целый ряд вопросов, разрешать которые районные организации не берутся. А все эти вопросы требуют скорейшего разрешения.
1. Из колхозов исключали не только тех колхозников, у которых находили краденый хлеб, но и тех, кто не выполнил контрольного задания по сдаче хлеба. Задания же не выполнило ни одно хозяйство по р-ну. Правильность исключения районными организациями не контролировалась. По колхозам свирепствовал произвол. Зачастую, пользуясь чисто формальным предлогом (невыполнение контрольного задания), исключали только потому, что необобществленный дом колхозника приглянулся правлению колхоза, или даже потому, что у того или иного колхозника было много картофеля. Исключали, а потом начинали "раскулачивать". Всего по р-ну было исключено около 2000 хозяйств. Сейчас им не дают земли даже для посадки овощей. При таком положении вещей все эти семьи заведомо обречены на голодную смерть. Надо же с ними что-либо делать?
2. Точно так же и с конфискацией имущества и с частичными штрафами: выселяли из домов, забирали коров, овощи, имущество не только у изобличенных в краже колхозного хлеба, но и у тех, которые не выполнили контрольные задания по сдаче хлеба. Оштрафовано было более 25% хозяйств (3350 на 24 января). Тысячами поступают жалобы, т. к. штрафовали и такие хозяйства, которые никогда не занимались сельским хозяйством и не были в поле (плотники, сапожники, портные, печники и пр.). Заявления, поступающие в р-ные учреждения, отсылаются на сельсоветы, а те взятое некогда имущество размытарили, продукты (овощи преимущественно) либо пораспределили, либо поморозили, перетаскивая из погребов. Разве же сельсоветы будут что-либо возвращать?
3. Нарсуды присуждали на 10 лет не только тех, кто воровал, но и тех, у кого находили хлеб с приусадебной земли, и тех, кто зарывал свой 15% аванс, когда начались массовые обыски и изъятие всякого хлеба. Судьи присуждали, боясь, как бы им не пришили "потворство классовому врагу", а кассационная коллегия крайсуда второпях утверждала. По одному Вешенскому району осуждено за хлеб около 1700 человек. Теперь семьи их выселяют на север.
РО ОГПУ спешно разыскивало контрреволюционеров, для того чтобы стимулировать ход хлебозаготовок, и тоже понахватало немалое количество людей, абсолютно безобидных и в прошлом и в настоящем. Вешенский портной, извечный бедняк, иногородний Коломейцев, был арестован органами ОГПУ и просидел в заключении 4 месяца. Кто-то сообщил, что в 1916 г. Коломейцев пришел в отпуск в Вешенскую, будучи произведенным в офицеры; в доказательство доносивший сообщал, что самолично видел тогда на плечах Коломейцева офицерские погоны... Портной мужественно сидел 4 месяца и отрицал свое причастие к офицерству. Между прочим ссылался и на свою безграмотность, но это не помогало. И сидел, хотя вся станица знала, что офицером он никогда не был. Как-то допросили его более внимательно и только тут установили, что в 1916 г. служил он рядовым в гусарском полку, из этого полка и явился в отпуск в невиданной на Дону форме. Кто-то вспомнил это событие тринадцатилетней давности и, перепутав гусарские погоны с офицерскими, упек Коломейцева в каталажку...
Сейчас очень многое требует к себе более внимательного отношения. А его-то и нет. Ну, пожалуй, хватит утруждать Ваше внимание районными делами, да всего и не перескажешь. После Вашей телеграммы я ожил и воспрянул духом. До этого было очень плохо. Письмо к Вам - единственное, что написал с ноября прошлого года. Для творческой работы последние полгода были вычеркнуты. Зато сейчас буду работать с удесятеренной энергией.
Если продовольственная помощь будет оказана Вешенскому и Верхне-Донскому районам, необходимо ускорить ее, т. к. в ближайшее время хлеб с пристанских пунктов будет вывезен пароходами и продовольствие придется возить за 165 кил. гужевым транспортом.
Крепко жму Вашу руку.
С приветом М. Шолохов.
В ответ на данное письмо Сталин отправил телеграмму :
Станица Вешенская Вешенского района Северо-Кавказского края.
Михаилу Шолохову.
Ваше второе письмо только что получил. Кроме отпущенных недавно сорока тысяч пудов ржи, отпускаем дополнительно для вешенцев восемьдесят тысяч пудов всего сто двадцать тысяч пудов. Верхне-Донскому району отпускаем
сорок тысяч пудов. Надо было прислать ответ не письмом, а телеграммой. Получилась потеря времени. 22.IV.33. Сталин".
Через две недели Сталин направил Шолохову письмо:
"Дорогой тов. Шолохов!
Оба Ваши письма получены, как Вам известно. Помощь, какую требовали, оказана уже.
Для разбора дела прибудет к вам, в Вешенский район, т. Шкирятов, которому - очень прошу Вас - оказать помощь.
Это так. Но это не все, т. Шолохов. Дело в том, что Ваши письма производят несколько однобокое впечатление. Об этом я хочу написать Вам несколько слов.
Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма - не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили "итальянку" (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию - без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), - этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели "тихую" войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов...
Конечно, это обстоятельство ни в коей мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали.
Ну, всего хорошего и жму Вашу руку.
Известное письмо писателя М.А. Шолохова на имя Сталина о методах раскулачивания и коллективизации в Вешенском районе Северо-Кавказского края РСФСР весной 1933 г. Несмотря на важность, оно всегда фигурировало в сети в виде транскрипции. Я решил сделать цифровую копию первоисточника. К сожалению, РГАСПИ по какой-то неизвестной для меня причине не предоставил последние две страницы документа- как только получу их обновлю пост. Полностью текстовая транскрипция, увы, превосходит лимит ЖЖ, поэтому в виде текста здесь приведена вторая часть письма, включая отсутствующие страницы.
UPDATE 18.05.2018 - РГАСПИ прислал недостающие страницы. Обновил пост.
Письмо М.А. Шолохова И.В. Сталину о ситуации в Вешенском районе Северо-Кавказского края РСФСР от 4 апреля 1933 г.
Рукой А. Поскребышева написано: «От т. Шолохова». Пометки: «Когда получено?» «Получено 15 апреля». Рукой Сталина: «т. Молотову. Ст.», «Мой архив. Ст.» Отдельные фразы в письме подчеркнуты Поскребышевым.
<...>
Теперь о методах, которые применяли во всех колхозах района согласно установкам Овчинникова и под непосредственным руководством Шарапова. Выселение из дома и распродажа имущества производилась простейше: колхозник получал контрольную цифру сдачи хлеба, допустим, 10 центнеров. За несдачу его исключали из колхоза, учитывали всю его задолженность, включая и произвольно устанавливаемую убыточность, понесенную колхозом за прошлые годы, и предъявляли все платежи, как к единоличнику. Причем соответственно сумме платежей расценивалось имущество колхозника; расценивалось так, что его в аккурат хватало на погашение задолженности. Дом, например, можно было купить за 60-80 руб., а такую мелочь, как шуба или валенки, покупали буквально за гроши…Было официально и строжайше воспрещено остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или греться выселенных. Им надлежало жить в сараях, в погребах, на улицах, в садах. Население было предупреждено: кто пустит выселенную семью — будет сам выселен с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих детишек, пускал своего выселенного соседа погреться. 1090 семей при 20-градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице. Днем, как тени, слонялись около своих замкнутых домов, а по ночам искали убежища от холода в сараях, в мякинниках. Но по закону, установленному крайкомом, им и там нельзя было ночевать! Председатели сельских советов и секретари ячеек посылали по улицам патрули, которые шарили по сараям и выгоняли семьи выкинутых из домов колхозников на улицы.
Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском, Лебяженского колхоза, ночью, на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми?
Мне казалось, что это — один из овчинниковских перегибов, но в конце января или в начале февраля в Вешенскую приехал секретарь крайкома Зимин*. По пути в Вешенскую он пробыл два часа в Чукаринском колхозе и на бюро РК выступил по поводу хода хлебозаготовок в этом колхозе. Первый вопрос, который он задал присутствовавшему на бюро секретарю Чукаринской ячейки, — «Сколько у тебя выселенных из домов?». «Сорок восемь хозяйств». «Где они ночуют?». Секретарь ячейки засмеялся, потом ответил, что ночуют, мол, где придется. Зимин ему на это сказал: «А должны ночевать не у родственников, не в помещениях, а на улице!».
После этого по району взяли линию еще круче. И выселенные стали замерзать. В Базковском колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь ходила она по хутору и просила, чтобы ее пустили с ребенком погреться. Не пустили, боясь, как бы самих не выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери. Сама мать обморозилась. Женщину эту выселял кандидат партии — работник Базковского колхоза. Его, после того как ребенок замерз, тихонько посадили в тюрьму. Посадили за «перегиб». За что же посадили? И если посадили правильно, то почему остается на свободе т. Зимин?
Число замерзших не установлено, т. к. этой статистикой никто не интересовался и не интересуется; точно так же, как никто не интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно: огромное количество взрослых и «цветов жизни» после двухмесячной зимовки на улице, после ночевок на снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом. А те, которые останутся в живых, будут полукалеками.
Но выселение — это еще не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хлеба:
1. Массовые избиения колхозников и единоличников.
2. Сажание «в холодную». «Есть яма?». — «Нет». — «Ступай, садись в амбар!». Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия — январь, февраль. Часто в амбары сажали целыми бригадами.
3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили: «Скажешь, где яма? Опять подожгу!» В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос.
4. В Наполовском колхозе уполномоченный РК кандидат в члены бюро РК Плоткин* при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а потом «прохладиться» выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова допрашивают. Он же (ПЛОТКИН) заставлял одного единоличника стреляться. Дал в руки наган и приказал: «Стреляйся, а нет — сам застрелю!». Тот начал спускать курок (не зная того, что наган разряженный), и, когда шелкнул боек, упал в обмороке.
5. В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил всю бригаду (мужчин и женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стручок красного перца (горчицы) и не приказал выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работников агитколонны, командиром коей был кандидат в члены бюро РК Пашинский* при допросах в штабе колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с керосином.
6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.
7. Там же: закатывали в рядно и топтали ногами.
8. В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за три километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказав бежать к хутору рысью.
9. В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 человек демобилизованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику — подозреваемому в краже — во двор (ночью), после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал «огонь» по связанному колхознику. Если устрашенный инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделывали процедуру, предшествующую расстрелу.
9. (Нумерация нарушена Шолоховым. — Ред.) В Кружилинском колхозе уполномоченный РК КОВТУН на собрании 6 бригады спрашивает у колхозника: «Где хлеб зарыл?». «Не зарывал, товарищ!». «Не зарывал? А, ну, высовывай язык! Стой так!». Шестьдесят взрослых людей, советских граждан по приказу уполномоченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение часа произносит обличающую речь. Такую же штуку проделал Ковтун и в 7 и в 8 бригадах; с той только разницей, что в тех бригадах он помимо высовывания языков заставлял еще становиться на колени.
10. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству.
11. В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом.
12. В Верхне-Чирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую плиту, а потом избивали и выводили, босых же, на мороз.
13. В Колундаевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу. Обмороженных привезли в Базковскую больницу.
14. Там же: допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, били и допрашивали.
15. В Базковском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с полдороги возвращали, и так по нескольку раз.
16. Уполномоченный РО ОГПУ Яковлев с оперативной группой проводил в Верхне-Чирском колхозе собрание. Школу топили до одурения. Раздеваться не приказывали. Рядом имели «прохладную» комнату, куда выводили с собрания для «индивидуальной обработки». Проводившие собрание сменялись, их было 5 человек, но колхозники были одни и те же… Собрание длилось без перерыва более суток.
Примеры эти можно бесконечно умножить. Это — не отдельные случаи загибов, это — узаконенный в районном масштабе — «метод» проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти «методы» на себе и после приходили ко мне с просьбами «прописать про это в газету».
Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко «В успокоенной деревне»? Так вот этакое «исчезание» было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч колхозников. Причем, как видите, с более богатым применением технических средств и с большей изощренностью.
Аналогичная история происходила и в Верхне-Донском районе, где особоуполномоченным был тот же Овчинников, являющийся идейным вдохновителем этих жутких издевательств, происходивших в нашей стране и в 1933 г.
Подтверждение фактов, которые я приводил, иллюстрируя работу по хлебозаготовкам, Вы можете получить в крайкоме и КрайКК*?. В конце марта в Вешенский район приезжали ответ. инструктор крайкома т. Давыдов и ответ. инструктор КрайКК т. Минин. Они располагают проверенным материалом по большинству приведенных мною случаев.
К Вам я обращаюсь с этим письмом вот почему: когда слух об извращении линии партии дошел до крайкома, в Вешенский район был послан член бюро крайкома — редактор краевой газеты «Молот» т. Филов. Он опросил кое-кого из райпартактива и, столкнувшись с заявлениями ряда товарищей о том, что установки на перегибы они получали из уст особоуполномоченного крайкома Овчинникова и уполн[омоченного] Шарапова, занял довольно странную позицию… Дело в том, что Овчинников на последнем пленуме крайкома был избран кандидатом в члены бюро крайкома и выдвинут секретарем Ростовского горкома. Филов, будучи в Вешенской и узнав о том, что Овчинников в свое время запретил писать в решении бюро Вешенского РК о перегибах, посоветовал секретарю РК Кузнецову: «ОВЧИННИКОВА ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАЙТЕ…».
Между тем еще до приезда Филова в районе был член бюро крайкома комсомола т. Кавтарадзе, который обследовал работу агитколонны, действовавшей под командованием Пашинского. По настоянию Кавтарадзе Пашинский и ряд работников агитколонны были исключены из партии и комсомола, а в настоящее время арестованы, находятся в заключении и ждут, когда крайком примет решение по их делу, т. к. следствие закончено и весь материал отослан в крайком.
Должен прямо сказать: крайком пока ведет линию на привлечение к ответственности «стрелочников». Глубокого всестороннего расследования событий, происходивших в Вешенском районе, не было, да, вероятно, и не будет, сколь такие авторитетные люди, как член бюро крайкома Филов, прямо советуют: «Овчинникова лучше не трогайте…». А присмотреться к тому, что происходит в районах, надо. Расследовать надо не только дела тех, кто издевался над колхозниками и над Советской властью, но и дела тех, чья рука направляла. Чего стоит, например, деятельность такого коммуниста, как уполномоченного крайкома Шарапова. Перед поездкой на пленум крайкома он зашел в РК и в моем присутствии повел следующий разговор с секретарем РК Кузнецовым: «На какой бы это козе подъехать в крайкоме, чтобы нам разрешили не весь хлеб перебрасывать с глубинок… Чтобы для колхозов левобережья оставили семенную страховку».
В это время поступления семян по всему району не превышало 5-6 центнеров в день. Было ясно, что не только 100% семфондов колхозы района не соберут, но не заготовят и 2%. Исходя из этого, я и посоветовал Шарапову: со всей большевистской смелостью заявить т. Шеболдаеву, что семенами Вешенский район не обеспечится и что переброску из глубинок необходимо немедленно прекратить. Шарапов только улыбнулся, вероятно, считая мои речи необычайно наивными. А Кузнецов сказал: «Если об этом сейчас заявить, то мало того, что ж… набьют, но и партбилет отымут!».
Будучи прекрасно осведомлены о том, что колхозы района не заготовят семян, и Шарапов и Кузнецов не заявили об этом в крайкоме, тем самым ввели крайком в заблуждение, в результате чего более 6000 тонн хлеба в феврале было переброшено из колхозов на пристанские пункты, а в марте этот же хлеб стали возить обратно. Тягло поставили, что называется, на постав, а вот теперь это тягло отказывается работать. Сев провален будет в текущем году в основном только благодаря этому.
К характеристике физиономии Шарапова будет не лишним добавить, что этот коммунист, пользовавшийся высоким доверием крайкома, уезжая из Вешенского района, не постеснялся запастись салом, конфискованным у выселенного колхозника, а также приобрести тулуп. Тулуп был расценен в 80 руб. и куплен для работников зерносовхоза, но тулуп приглянулся т. Шарапову. Ему уступили тулуп за эту же цену, но Шарапов заявил, что он не в состоянии платить такие деньги… В расценке срочно произвели «исправление» — вместо 80 руб. поставили 40, и Шарапов укатил в Ростов в купленном по дешевке тулупе и с запасом сала…
В заключение — о «видах на будущее»: если в 1931 г. по району было 73 000 гек. зяби, то в 1932 г. только 25 000, а план сева яровых в 1933 г. увеличен по сравнению с прошлым годом на 9000 гек.
Продовольственная помощь, оказываемая государством, явно недостаточна. Из 50 000 населения голодают никак не меньше 49 000. На эти 49 000 получено 22 000 пудов. Это на три месяца. Истощенные, опухшие колхозники, давшие стране 2 300 000 пудов хлеба, питающиеся в настоящее время черт знает чем, уж наверное не будут вырабатывать того, что вырабатывали в прошлом году. Не менее истощен и скот, два месяца, изо дня в день, в распутицу возивший с места на место хлеб, по милости Шарапова и РК. Все это, вместе взятое, приводит к заключению, что план сева колхозы района к сроку безусловно не выполнят. Но платить-то хлебный налог придется не с фактически засеянной площади, а с контрольной цифры присланного краем плана. Следовательно, история с хлебозаготовками 1932 г. повторится и в 1933 г. Вот перспективы, уже сейчас грозно встающие перед вышедшими на сев колхозниками.
Если все описанное мною заслуживает внимания ЦК, — пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачить всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные «методы» пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это.
Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхне-Донском районах, нельзя. Только на Вас надежда.
Простите за многословность письма. Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу «Поднятой целины».
С приветом
М. Шолохов.
Ст. Вешенская СКК
В ответ на письмо И. В. Сталин послал телеграмму:
Станица Вешенская Вешенского района Северо-Кавказского края Михаилу Шолохову.
Ваше письмо получил пятнадцатого. Спасибо за сообщение. Сделаем все что требуется. Сообщите о размерах необходимой помощи. Назовите цифру.
Станица Вешенская Вешенского района Северо-Кавказского края
Михаилу Шолохову
Ваше второе письмо только что получил. Кроме отпущенных недавно сорока тысяч пудов ржи отпускаем дополнительно для вешенцев восемьдесят тысяч пудов всего сто двадцать тысяч пудов. Верхне-Донскому району отпускаем сорок тысяч пудов. Надо было прислать ответ не письмом, а телеграммой. Получилась потеря времени.
22.IV.33 г. Сталин.
АПРФ, ф. 45. on. 1, д. 827, л. 30. Копия.
Дорогой тов. Шолохов!
Оба Ваши письма получены, как Вам известно. Помощь, какую требовали, оказана уже.
Для разбора дела прибудет к вам, в Вешенский район, т. Шкирятов, которому—очень прошу Вас—оказать помощь.
Это так. Но это не все т. Шолохов. Дело в том, что Ваши письма производят несколько однобокое впечатление. Об этом я хочу написать Вам несколько слов.
Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите не плохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма—не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили “итальянку” (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих. Красную армию—без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови),—этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели “тихую” войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов...
Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые как уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали.
Ну, всего хорошего и жму Вашу руку.
6.V. 33 г. Ваш И. Сталин.
АПРФ, ф. 3, oп. 61. д. 549. л. 194. Копия.
Опубликовано: Впервые: «Правда», 1963. 10 марта (в извлечениях, в речи Н. С. Хрущева на встрече с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 г.); полностью — «Родина», 1992. № 11/12. С. 51—57, повторно — «Вопросы истории», 1994. № 3. С. 7—18.
Станица Вешенская
т. Сталин!
Вешенский район, наряду со многими другими районами Северо-Кавказского края, не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от голода колхозники и единоличники; взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями. Словом, район, как будто ничем не отличается от остальных районов нашего края. Но причины, по которым 99% трудящегося населения терпят такое страшное бедствие, несколько иные, нежели, скажем, на Кубани.
Прошлые годы Вешенский район был в числе передовых по краю. В труднейших условиях 1930 - 31 гг. успешно справлялся и с севом и с хлебозаготовками. О том, как парторганизация боролась за хлеб, красноречиво свидетельствуют цифры роста посевных площадей. Посевная площадь по колхозно-единоличному сектору: 1930 г. - 87 571 гек., 1931 г. - 136 947 гек., 1932 г. - 163 603 гек.
Как видите, с момента проведения сплошной коллективизации посевная площадь выросла почти вдвое. Как работали на полудохлом скоте, как ломали хвосты падающим от истощения и устали волам, сколько трудов положили и коммунисты и колхозники, увеличивая посев, борясь за укрепление колхозного строя, - я постараюсь - в меру моих сил и способностей - отобразить во второй книге "Поднятой целины". Сделано было много, но сейчас все пошло насмарку, и район стремительно приближается к катастрофе, предотвратить которую без Вашей помощи невозможно.
Вешенский район не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян не потому, что одолел кулацкий саботаж и парторганизация не сумела с ним справиться, а потому, что плохо руководит краевое руководство. На примере Вешенского района я постараюсь это доказать.
Но т. к. падающая кривая поступлений хлеба не обеспечивала выполнения плана к сроку, крайком направил в Вешенский район особого уполномоченного т. Овчинникова (того самого, который некогда приезжал устанавливать "дополнительную" урожайность)... Овчинников громит районное руководство и, постукивая по кобуре нагана, дает следующую установку:
"Хлеб надо взять любой ценой! Будем давить так, что кровь брызнет! Дров наломать, но хлеб взять!"
Отсюда начинается и "ломание дров"...
Установка Овчинникова - "Дров наломать, но хлеб взять!" - подхватывается районной газетой "Большевистский Дон". В одном из номеров газета дает "шапку": "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК И ЗАСЫПАТЬ СЕМЕНА!" И начали по району с великим усердием "ломать дрова" и брать хлеб "любой ценой".
К приезду вновь назначенного секретаря РК Кузнецова и председателя РИК"а Королева по району уже имелись плоды овчинниковского внушения:
В Плешаковском колхозе два уполномоченных РК, Белов и другой товарищ, фамилия которого мне неизвестна, допытываясь у колхозников, где зарыт хлеб, впервые применили впоследствии распространившийся по району метод "допроса с пристрастием". В полночь вызывали в комсод, по одному, колхозников, сначала допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки: между пальцев клали карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к проруби в Дону топить.
В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивалпо дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрос.
В Лиховидовском колхозе уполномоченный РК на бригадном собрании приказал колхозникам встать, поставил в дверях вооруженного сельского, которому вменил в обязанность следить за тем, чтобы никто не садился, а сам ушел обедать. Пообедал, выспался, пришел через 4 часа. Собрание под охраной сельского стояло... И уполномоченный продолжал собрание.
На первом же бюро РК новый секретарь РК поставил вопрос об этих перегибах. Было записано в решении бюро о том, что такие "методы" хлебозаготовок искажают линию партии. Об этом на другой день узнал Овчинников, приехавший из Верхне-Донского района (он работал особоуполномоченным по двум районам: Вешенскому и Верхне-Донскому), и тотчас же предложил секретарю РК: "О перегибах в решении не записывай! Нам нужен хлеб, а не разговорчики о перегибах. А вот ты с первых же дней приезда начинаешь разговоры о перегибах и тем самым ослабляешь накал борьбы за хлеб, расхолаживаешь парторганизацию, демобилизуешь ее!"
И рассказал исключительно интересный случай из собственной практики; случай, по-моему, проливающий яркий свет на фигуру Овчинникова. Передаю со слов секретаря РК Кузнецова и ряда других членов бюро РК, которым Овчинников этот же случай рассказывал в другое время.
"В 1928 г. я был секретарем Вольского ОК Нижневолжского края. Во время хлебозаготовок, когда применяли чрезвычайные мероприятия, мы не стеснялись в применении жесточайших репрессий и о перегибах не разговаривали! Слух о том, что мы перегнули, докатился до Москвы... Но зато целиком выполнили план, в крае не на плохом счету! На 16 Всесоюзной партконференции во время перерыва стоим мы с т. Шеболдаевым, к нам подходит Крыленко и спрашивает у Шеболдаева: "А кто у тебя секретарем Вольского ОК? Наделал во время хлебозаготовок таких художеств, что придется его, как видно, судить". - "А вот он, секретарь Вольского ОК", - отвечает Шеболдаев, указывая на меня. "Ах, вот как! - говорит Крыленко. - В таком случае, товарищ, зайдите после конференции ко мне". Я подумал, что быть неприятности, дал телеграмму в Вольск, чтобы подготовили реабилитирующие материалы, но после конференции на совещании с секретарями крайкомов Молотов заявил: "Мы не дадим в обиду тех, которых обвиняют сейчас в перегибах. Вопрос стоял так: или взять, даже поссорившись с крестьянином, или оставить голодным рабочего. Ясно, что мы предпочли первое". После этого Крыленко видел меня, но даже и словом не обмолвился о том, чтобы я к нему зашел!"
Естественно, что после истории с решением о перегибах РК закрыл глаза на все безобразия, которые творились в районе, а если в особо исключительных случаях и говорили по поводу перегибов, то так глухо, как из воды. Решения выносились больше для очистки совести, не для проработки на ячейках, а для особой папки, на всякий случай.
После отъезда Овчинникова в Верхне-Донской район работой стал руководить Шарапов.
О работе уполномоченного или секретаря ячейки Шарапов судил не только по количеству найденного хлеба, но и по числу семей, выкинутых из домов, по числу раскрытых при обысках крыш и разваленных печей. "Детишек ему стало жалко выкидывать на мороз! Расслюнявился! Кулацкая жалость его одолела! Пусть, как щенки, пищат и дохнут, но саботаж мы сломим!", - распекал на бюро РК Шарапов секретаря ячейки Малаховского колхоза за то, что тот проявил некоторое колебание при массовом выселении семей колхозников на улицу. На бюро РК, в ячейке, в правлении колхоза, громя работавших по хлебозаготовкам, Шарапов не знал иного обращения, кроме как "сволочь", "подлец", "кусок слюнтяя", "предатель", "сукин сын". Вот лексикон, при помощи которого уполномоченный крайкома объяснялся с районными и сельскими коммунистами.
До чистки партии за полтора месяца (с 20 декабря по 1 января) из 1500 коммунистов было исключено более 300 человек. Исключали, тотчас же арестовывали и снимали со снабжения как самого арестованного, так и его семью. Не получая хлеба, жены и дети арестованных коммунистов начинали пухнуть от голода и ходить по хуторам в поисках "подаяния"...
Исключение из партии, арест и голод грозили всякому коммунисту, который не проявлял достаточной "активности" по части применения репрессий, т.к. в понимании Овчинникова и Шарапова только эти методы должны были давать хлеб. И большинство терроризированных коммунистов потеряли чувство меры в применении репрессий. По колхозам широкой волной покатились перегибы. Собственно то, что применялось при допросах и обысках, никак нельзя было назвать перегибами; людей пытали, как во времена средневековья, и не только пытали в комсодах, превращенных буквально в застенки, но и издевались над теми, кого пытали. Ниже я приведу краткий перечень тех "способов", при помощи которых работали агитколонны и уполномоченные РК, а сейчас в цифрах, полученных мною в РК, покажу количество подвергавшихся репрессиям и количество хлеба, взятого с момента применения репрессий.
По Вешенскому району. 1. Хозяйств - 13 813; 2. Всего населения- 52 069; 3. Число содержавшихся под стражей, арестованных органами ОГПУ, милицией, сельсоветами и пр. - 3 128; 4. Из них приговорено к расстрелу - 52; 5. Осуждено по приговорам нарсуда и по постановлениям коллегии ОГПУ - 2300; 6. Исключено из колхоза хозяйств - 1947; 7. Оштрафовано (изъято продовольствие и скот) - 3 350 хозяйств; 8. Выселено из домов - 1090 хозяйств.
Мне казалось, что это - один из овчинниковских перегибов, но в конце января или в начале февраля в Вешенскую приехал секретарь крайкома Зимин. По пути в Вешенскую он пробыл два часа в Чукаринском колхозе и на бюро РК выступил по поводу хода хлебозаготовок в этом колхозе. Первый вопрос, который он задал присутствовавшему на бюро секретарю Чукаринской ячейки: - "Сколько у тебя выселенных из домов?" - "Сорок восемь хозяйств". - "Где они ночуют?" Секретарь ячейки засмеялся, потом ответил, что ночуют, мол, где придется. Зимин ему на это сказал: "А должны ночевать не у родственников, не в помещениях, а на улице!"
После этого по району взяли линию еще круче. И выселенные стали замерзать. В Базковском колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь ходила она по хутору и просила, чтобы ее пустили с ребенком погреться. Не пустили, боясь, как бы самих не выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери. Сама мать обморозилась. Женщину эту выселял кандидат партии - работник Базковского колхоза. Его, после того как ребенок замерз, тихонько посадили в тюрьму. Посадили за "перегиб". За что же посадили? И если посадили правильно, то почему остается на свободе т. Зимин?
Число замерзших не установлено, т. к. этой статистикой никто не интересовался и не интересуется; точно так же, как никто не интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно: огромное количество взрослых и "цветов жизни" после двухмесячной зимовки на улице, после ночевок на снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом. А те, которые останутся в живых, будут полукалеками.
Но выселение - это еще не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хлеба:
Массовые избиения колхозников и единоличников.
Сажание "в холодную". "Есть яма?" - "Нет". - "Ступай, садись в амбар!" Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия - январь, февраль. Часто в амбары сажались целыми бригадами.
В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили: "Скажешь,где яма? Опять подожгу!" В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос.
В Наполовском колхозе уполномоченный РК кандидат в члены бюро РК Плоткин при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а потом"прохладиться" выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова допрашивают. Он же (ПЛОТКИН)заставлял одного единоличника стреляться. Дал в руки наган и приказал: "Стреляйся, а нет - сам застрелю!" Тот начал спускать курок (не зная того, что наган разряженный) и, когда щелкнул боек, упал в обмороке.
В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил всю бригаду (мужчин и женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стручок красного перца (горчицы) и не приказал выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работников агитколонны, командиром коей был кандидат в члены бюро РК Пашинский при допросах в штабе колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с керосином.
В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.
Там же: закатывали в рядно и топтали ногами.
В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за три километра в степь,раздели на снегу догола и пустили, приказав бежать к хутору рысью.
В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 человек демобилизованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику - подозреваемому в краже - во двор(ночью), после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал "огонь" по связанному колхознику. Если устрашенный инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделывали процедуру, предшествующую расстрелу.
(Нумерация нарушена Шолоховым. - Ред.) В Кружилинском колхозе уполномоченный РК КОВТУН на собрании 6 бригады спрашивает у колхозника: "Где хлеб зарыл?" - "Не зарывал, товарищ!" - "Не зарывал? А ну, высовывай язык! Стой так!" Шестьдесят взрослых людей, советских граждан по приказу уполномоченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение часа произносит обличающую речь. Такую же штуку проделал Ковтун и в7 и в 8 бригадах; с той только разницей, что в тех бригадах он помимо высовывания языков заставлял еще становиться на колени.
В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству.
В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом.
В Верхне-Чирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую плиту, а потом избивалии выводили, босых же, на мороз.
В Колундаевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу. Обмороженных привезлив Базковскую больницу.
Там же: допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, били и допрашивали.
В Базковском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с полдороги возвращали, и так по нескольку раз.
Уполномоченный РО ОГПУ Яковлев с оперативной группой проводил в Верхне-Чирском колхозе собрание. Школу топили до одурения. Раздеваться не приказывали. Рядом имели"прохладную" комнату, куда выводили с собрания для "индивидуальной обработки". Проводившие собрание сменялись, их было 5 человек, но колхозники были одни и те же... Собрание длилось без перерыва более суток.
Примеры эти можно бесконечно умножить. Это - не отдельные случаи загибов, это - узаконенный в районном масштабе - "метод" проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти "методы" на себе и после приходили ко мне с просьбами "прописать про это в газету".
Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко "В успокоенной деревне"? Так вот этакое "исчезание" было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч колхозников. Причем, как видите, с более богатым применением технических средств и с большей изощренностью.
Продовольственная помощь, оказываемая государством, явно недостаточна. Из 50 000 населения голодают никак не меньше 49 000. На эти 49 000 получено 22 000 пудов. Это на три месяца. Истощенные, опухшие колхозники, давшие стране 2 300 000 пудов хлеба, питающиеся в настоящее время черт знает чем, уж наверное не будут вырабатывать того, что вырабатывали в прошлом году. Не менее истощен и скот, два месяца, изо дня в день, в распутицу возивший с места на место хлеб, по милости Шарапова и РК. Все это, вместе взятое, приводит к заключению, что план сева колхозы района к сроку безусловно не выполнят. Но платить-то хлебный налог придется не с фактически засеянной площади, а с контрольной цифры присланного краем плана. Следовательно, история с хлебозаготовками 1932 г. повторится и в 1933 г. Вот перспективы, уже сейчас грозно встающие перед вышедшими на сев колхозниками.
Если все описанное мною заслуживает внимания ЦК, - пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачить всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные "методы" пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это.
Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхне-Донском районах, нельзя. Только на Вас надежда.
Простите за многословность письма. Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу "Поднятой целины".
С приветом М. Шолохов
АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 827, л. 7 - 22. Подлинник
Ваше письмо получил пятнадцатого. Спасибо за сообщение. Сделаем все, что требуется. Сообщите о размерах необходимой помощи. Назовите цифру.
Сталин. 16.IV.33 г.
АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 827, л. 23. Копия
И.В. Сталин - М. А. Шолохову
Молния
Станица Вешенская Вешенского района Северо-Кавказского края Михаилу Шолохову
Ваше второе письмо только что получил. Кроме отпущенных недавно сорока тысяч пудов ржи отпускаем дополнительно для вешенцев восемьдесят тысяч пудов. Всего сто двадцать тысяч пудов. Верхне-Донскому району отпускаем сорок тысяч пудов. Надо было прислать ответ не письмом, а телеграммой. Получилась потеря времени.
Сталин.
АП РФ, ф.45, оп. 1, д. 827, л.ЗО. Копия
И.В. Сталин - М. А. Шолохову
Дорогой тов. Шолохов!
Оба Ваши письма получены, как Вам известно. Помощь, какую требовали, оказана уже.
Для разбора дела прибудет к вам, в Вешенский район, т.Шкирятов, которому - очень прошу Вас - оказать помощь.
Это так. Но не все, т. Шолохов. Дело в том, что Ваши письма производят несколько однобокое впечатление. Об этом я хочу написать Вам несколько слов.
Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма - не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили "итальянку" (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию- без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), - этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели "тихую" войну с Советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов...
Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло показаться издали.
Ну, всего хорошего и жму Вашу руку.
Ваш И.Сталин.
АП РФ, ф.З, оп.61, д.549, л. 194. Копия