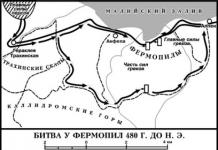Прислали мне видеозапись в качестве доказательства беспередентного участия русских из России в войне на Донбассе. Утверждается, с ссылкой на ополченца из Питера, что армия Новороссии на 75% состоит из русских. И делаются из этого выводы, что сами жители Донбасса воевать не хотят, что это всё русские войну устроили.
Какие вопросы возникают при просмотре видео? Какое более-менее реальное положение дел с составом армий ДНР и ЛНР? Каковы причины и перспективы ВС Новороссии?
Без всякой тенденциозности после просмотра видео должен возникнуть закономерный вопрос. Откуда рядовой боец-доброволец знает о составе сил всего ополчения? Он безусловно знает о составе своего подразделения и может знать о составе подразделений соседних. Но о составе всего ополчения он откуда знает? Из СМИ? Это во-первых
.
Во-вторых
, о каком временном интервале идёт речь? Мы прекрасно знаем, что численность российских добровольцев очень разнится в разные этапы противостояния. Во время второй волны ополчения, когда руководители республик уже захватили огромное количество техники и призвали спецов, умеющих ею управлять, их стало больше. У меня знакомые специально отпуска брали на тот период и ехали в Донецк. Теперь дома уже, много рассказывают. А сейчас там от силы процентов 10 россиян осталось. А когда противостояние начиналось, россиян там не было вообще .
В-третьих
, присутствие русских добровольцев воспринимается как вторжение, в то время как присутствие русских на майдане воспринималось исключительно как героизм. Не надо лицемерить. Если русские помогали вам в ваших целях тогда и вы звали их братьями, то сейчас русские приехали помогать тем, кого вы убиваете. И уже они называют их братьями. И, о ужас! есть кавказские добровольцы, помогавшие ПС кидать "коктейли Молотова" и лупить арматурой "Беркут". Как вам флаги "Имарата Кавказ" на Майдане? Хорошо смотрятся? Не смущают такие чечены? Кстати, есть и русские вояки, кто воюет против Новороссии в составе ваших батальонов нацгвардии . Наёмники или добровольцы, как вы их назовёте?
И пара слов по поводу отправки в бой неподготовленных новобранцев. Не знаю, как в других подразделениях, но бригада "Восток" перед выпуском в бой ребят три месяца жёстко гоняет в учебке. А то, что описывается на видео было возможно разве что в достаточно короткий этап контрнаступления, когда действовать нужно было быстро.
Тем не менее, из 6 млн жителей Донбасса
на самом деле 60 000 армия не сформировалась
. (Численность армии, равная 1% населения в мирное время - вполне нормальая цифра) Но время то военное, а армии нет. Почему?
Тут есть несколько причин.
Перечислю по порядку.
1. Постсоветское общество потерпело очень страшную ломку. Отказ от идеального просто так не проходит. Когда идеалы были заменены потребительством (достаточно скромным, кстати), мобилизационный потенциал общества оказался сильно подорван.
2. Те люди, что сохранили идеальное и начали мобилизацию на антимайдан, оказались преданы своими же лидерами. КПУ и ПР рассыпались, как глиняные гиганты. Больной хилый бандеровский волк сумел перепугать красивых статных баранов правящей элиты. И бараны эти либо ушли совсем, либо начали прогибаться под волка, помогая ему насытиться мобилизующимся населеним. Все помнят Допу и Гепу? Все помнят, как они заявили о неподчинении Хунте и тут же свалили из страны, отдав поверивших им людей на растерзание нацикам? Без лидеров организовать сопротивление трудно. А после ряда предательств это становится почти невозможно. Но сопротивление сформировалось.
3. Та идея, вокруг которой сопротивление несмотря ни на что сформировалось, идея антифашистской мобилизации, Дух сопротивления смертельнмоу врагу, подверглась атакам из рядов самого ополчения. Оказалось, что в составе ополчения действуют идеологи и боевые подразделения последователей власовцев, восхвалители РОА и русских фашистов. Что такое глава РОВС на должности замполита при министре обороны ДНР Стрелкове? Как власовцы могут воевать с бандеровцами ? Как по мне, так Порошенко просто обязан наградить Стрелкова и его клику высшими государственными наградами Украины. Как за срыв мобилизационного потенциала ополчения, так и за конкретную сдачу хунте половины территории ДНР.
О перспективах.
А перпективы таковы, что при продолжении ускорения успешности построения армии и государственности в непризнанных республиках, Украина окажется в очень и очень плачевном состоянии. Что будут делать жители Киева, когда выяснится, что разбитый украинской артиллерией Донбасс живёт лучше, чем хвалёная "очищенная от коррупции демократическая" Украина со всеми своими иностранными министрами и типа помощью ЕС? Военным путём ВСУ Донбасс уже не возьмёт (другого такого героя Украины, как Стрелков, им уже не найти), а армия продолжает формироваться, добровольцев с самого Донбасса становится всё больше. А если проиграет ещё и мир...
Вот мало мальски реальная картина происходящего с составом армии Новороссии, их причинами и перспективами. Если кому-то есть чем выкладку дополнить, милости прошу.
В начале января 1611 года нижегородцы получили грамоту[источник не указан 549 дней] от патриарха Гермогена: «Вы видите, -- писал он, -- как ваше отечество расхищается, как ругаются над святыми иконами и храмами, как проливают кровь невинную… Бедствий, подобных нашим бедствиям, нигде не было, ни в каких книгах не найдёте вы подобного». Жители Москвы также писали нижегородцам: «Гибнет Москва, а Москва есть основание России; не забудьте, что пока крепок корень, то и дерево крепко… Пощадите нас, бедных душами и телами, к концу погибели пришедших, станьте с нами заодно против врагов креста Христова».
Кроме Нижнего Новгорода, воззвания патриарха и москвичей достигли и других городов. Горячо откликнулись рязанцы. Рязанский воевода Прокопий Ляпунов первым из будущих вождей народного ополчения начал собирать в Рязани патриотов русской земли для похода и освобождения Москвы от интервентов и уже от себя рассылал грамоты, призывая к борьбе против поляков.
Поляки, узнав об этом, призвали на помощь для разорения рязанских городов малороссийских казаков, которые заняли ряд городов, в том числе Пронск. Ляпунов отбил у них город, но и сам попал в осаду. На помощь Ляпунову пришёл зарайский воевода князь Д. М. Пожарский. Освободив Ляпунова, Пожарский вернулся в Зарайск. Но казаки, ушедшие из под Пронска, захватили ночью зарайские укрепления (острог) вокруг кремля, где находился Пожарский. Пожарскому удалось выбить их оттуда, уцелевшие бежали.
Бомльшая часть сторонников Лжедмитрия II с гибелью последнего откликнулась на призыв Ляпунова, так как тоже не хотела власти поляков в России. В их числе были князь Д. Т. Трубецкой, Масальский, князья Пронский и Козловский, Мансуров, Нащокин, Волконский, Волынский, Измайлов, Вельяминов. Перешла на сторону ополченцев и казацкая вольница во главе с атаманами Заруцким и Просовецким.
В январе 1611 года нижегородцы, утвердившись крестным целованием (клятвой) с балахонцами (жителями города Балахны), разослали призывные грамоты в города Рязань, Кострому, Вологду, Галич и другие, прося прислать в Нижний Новгород ратников, чтобы «стати за…веру и за Московское государство заодин». Воззвания нижегородцев имели успех. Откликнулось много поволжских и сибирских городов.
Рязанский воевода Прокопий Ляпунов, в свою очередь, направил в Нижний Новгород своих представителей для согласования сроков похода на Москву и просил нижегородцев взять с собой побольше боевых припасов, в частности пороха и свинца.
Начало организации второго ополчения
Пожарский прибыл в Нижний Новгород 28 октября 1611 года и сразу же вместе с Мининым начал организацию ополчения. В нижегородском гарнизоне всех воинов было порядка 750 человек. Тогда пригласили из Арзамаса служилых людей из смолян, которые были изгнаны из Смоленска после занятия его поляками. В аналогичном положении оказались вязьмичи и дорогобужцы, которые тоже влились в состав ополчения. Ополчение сразу выросло до трёх тысяч человек. Все ополченцы получили хорошее содержание: служилым людям первой статьи назначили денежный оклад -- 50 рублей в год, второй статьи -- 45 рублей, третьей -- 40 рублей, меньше же 30 рублей в год оклада не было. Наличие у ополченцев постоянного денежного довольствия привлекло в ополчение новых служилых людей со всех окрестных областей. Пришли коломенцы, рязанцы, казаки и стрельцы из украинных городов и др.
Хорошая организация, особенно сбор и распределение средств, заведение собственной канцелярии, налаживание связей со многими городами и районами, вовлечение их в дела ополчения -- всё это привело к тому, что в отличие от Первого ополчения во Втором с самого начала утвердилось единство целей и действий. Пожарский и Минин продолжали собирать казну и ратников, обращаться за помощью в разные города, посылали им грамоты с воззваниями: «…быти нам всем, православным христианам, в любви и в соединении и прежнего межусобства не счинати, и Московское государство от врагов наших… очищати неослабно до смерти своей, и грабежей и налогу православному христианству отнюдь не чинити, и своим произволом на Московское государство государя без совету всей земли не обирати» (грамота из Нижнего Новгорода в Вологду и Соль Вычегодскую в начале декабря 1611 года). Власти Второго ополчения фактически начали осуществлять функции правительства, противостоявшего московской «семибоярщине» и независимым от властей подмосковных «таборов», руководимых Д. Т. Трубецким и И. И. Заруцким. Первоначально ополченское правительство сформировалось в течение зимы 1611--1612 гг. как «Совет всея земли». В него вошли руководители ополчения, члены городского совета Нижнего Новгорода, представители других городов. Окончательно оно оформилось при нахождении второго ополчения в Ярославле и после «очищения» Москвы от поляков.
Правительству Второго ополчения пришлось действовать в сложной обстановке. На него с опасением смотрели не только интервенты и их приспешники, но и московская «семибоярщина» и руководители казацкой вольницы, Заруцкий и Трубецкой. Все они чинили Пожарскому и Минину различные препятствия. Но те, несмотря ни на что, своей организованной работой укрепляли своё положение. Опираясь на все слои общества, особенно на уездное дворянство и посадских людей, они наводили порядок в городах и уездах севера и северо-востока, получая взамен новых ополченцев и казну. Своевременно посланные им отряды князей Д. П. Лопаты Пожарского и Р. П. Пожарского заняли Ярославль и Суздаль, не допустив туда отряды братьев Просовецких.
Перед тем как начать рассказывать, о создании народного ополчения в 1812 году, я считаю, что необходимо с начало показать пример создания народного ополчения ещё ранее, в 1806-1807 годах, на основе которого будет создано в 1812 году новое ополчение в решающий момент Русской истории.
Война России с Францией в 1805-1807 году, поставила страну в большую опасность, вследствие, нескольких проигранных русской стороной битв враг стоял у наших границ, и правительство решило мобилизовать внутренний резерв, для большей надёжности. Посмотрим, как это было.
30 ноября 1806 г. был издан манифест «О составлении и образовании повсеместных ополчений или милиций», в котором 1 отмечалось, что «бедствия, постигшие в кратчайшее время соседние державы, показывают ныне необходимость в мерах необыкновенных, в условиях великих и твердых... Таковыми только чувствиями воспламененный и движимый народ поставить может повсеместным ополчением непроницаемым оплотом против сил враждебных, сколько бы они велики ни были».
Ополчение 1806 г., именуемое в манифесте «земским войском», или «милицией», формировалось в семи областях, включавших 31 губернию, и насчитывало в своих рядах 612 тыс. ратников. Создавалось оно на следующих основаниях: каждый помещик, «казенное село» и мещанское общество в двухнедельный срок должны были выставить положенное число вооруженных, обмундированных и обеспеченных трехмесячным жалованьем и продовольствием людей.
Ратники, зачислённые в ополчение, до выступления их к частям действующей армии должны были оставаться в своих селениях, в помещичьих владениях и, «пребывая в крестьянском их быту, исправлять все те повинности, коими они обязаны по земскому и волостному управлению». Командный состав ополчения избирался дворянством. Главнокомандующий областным ополчением назначался императором «из особ, верностью, службою и достоинствами общественную доверенность приобретающих». Главнокомандующему областным ополчением были подчинены все местные административные органы власти. Все его распоряжения, касающиеся формирования ополчения, должны были исполняться, как определялось в манифесте, «с точностью, верностью и поспешностью».
Однако вся полнота власти, которой наделялся главнокомандующий областным ополчением, была предназначена в первую очередь для того, чтобы, как говорилось в манифесте, «в случае нарушения порядка и спокойствия, где обыкновенные меры помещичьего и судебного действия признаете вы недостаточными к скорому ускорению ослушных и где найдете вы нужным дать пример строгости и в самом корне отсечь покушение». Следовательно, главнокомандующий ополчением располагал неограниченными правами в подавлении крестьянских восстаний в районах формирования ополчения.
Ополчение 1806 г. имело законченную организацию, определявшую взаимные отношения начальников и порядок снабжения. Первый призыв ратников на военную службу произведен был весной 1807 г., в период возросшей опасности вторжения наполеоновских войск в Россию. Но вскоре был заключен Тильзитский мир. Противник уже больше не угрожал вторжением, и поэтому надобность в сохранении ополчения в таких больших размерах отпала. По манифесту от 27 сентября 1807 г. оно было распущено. Но в нарушение своего обещания не обращать ратников в рекруты царь разрешил из 200 тыс. воинов, подлежавших возвращению домой, перевести в рекруты 177 тыс.
Сохранение рекрутской системы дало о себе знать с особой силой в 1812 г. Крупные неудачи русской армии в начальный период Отечественной войны 1812 г. в значительной степени были обусловлены именно кризисным состоянием рекрутской системы, отсутствием необходимых резервов. Опыт, накопленный в процессе формирования массового ополчения 1806-1807 гг., был использован затем в Отечественной войне 1812 г., когда ополчение выполнило роль, мощного источника пополнения русской армии.
6 Июля 1812 года перед отъездом из Полоцка в Москву Александр I издал первый акт, касающиеся формирования ополчения: «Воззвание Первопрестольной столицы нашей Москве» и манифест 6-го июля 1812 года.
В воззвании к Москве отмечалось, что древняя столица «всегда была главой городов Российских и она наливала всегда из недр своих смертельную на врагов силу».
В манифесте от 6-го июля 1812 года о создании ополчения говорилось: «При всей твёрдой надежде на храброе наше воинство, полагаем мы необходимо - нужное собрать внутри государства новые силы, которые составили бы вторую ограду в подкрепление первой и в защиту домов, жён и детей каждого и всех… Ныне взываю ко всем сословиям и состояниям духовным и мирским, приглашая их вместе с нами единодушно и общим восстаниям содействовать против всех вражеских замыслов и покушений. Для первоначального состояния предназначаемых сил представляется во всех губерниях дворянству сводить поставляемые ими для защиты отечества людей, избирая из среды самих себя начальника над оными и давая о числе их знать в Москву, где избран будет главный над всеми предводитель.
Следующим актом не только декларативным, но и конкретным был манифест 18 Июля, в котором правительство устанавливает способы и формы создания ополчения. В этом документе бросается в глаза то, что царь уже не взывает «ко всем сословиям и состояниям духовным и мирским», не приглашает их к единому и общему восстанию «противу всех вражеских замыслов». Из ополчения исключаются все категории крестьян кроме помещичьих.
Экономические, государственные и удельные крестьяне в тех губерниях, из коих составляется временное внутреннее ополчение, не участвуют в оном, но представляются для обыкновенного с ним набора рекрутов.
По манифесту от 18 июля «О составлении временного внутреннего ополчения» правительство решило ограничить район формирования ополчения 16-ю губерниями центральной части России и Поволжья. При этом оно исходило из следующих соображений: во-первых, нужно было сохранить районы для проведения очередных рекрутских наборов; во-вторых, правительство стремилось к тому, чтобы патриотическое движение, вызванное созданием ополчения, не вышло из-под контроля дворянства. Создание ополчения должно было стать делом только дворянства.
Ополчающиеся губернии следующим образом распределялись по трем округам. В I округ входили губернии; Московская, Владимирская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Тверская и Ярославская; во II - Петербургская и Новгородекая; в III - Нижегородская, Костромская, Казанская, Вятская, Симбирская и Пензенская.
В манифесте для каждого округа были поставлены определенные задачи. Так, в частности, от ополчения I округа требовалось принять «самые скорые и деятельные меры к собранию, вооружению и устроению внутренних сил, долженствующих охранять первопрестольную столицу нашу Москву и пределы сего округа».
Ввиду того, что уже в начале июля возникла угроза наступления крупных сил противника на Петербургском направлении, правительство назначило М. И. Кутузова на пост командующего сухопутными и морскими силами, расположенными вокруг Петербурга. Задачей ополчения II округа было подкрепление войск, обеспечивавших Петербургское направление.
III округу было предписано только «приготовить, расчислить и назначить людей, но до повеления не собирать их и не отрывать от сельских работ». Таким образом, первоначально ополчению III округа отводилась роль резерва.
Манифест 18 июля, территориально ограничивающий формирование ополчения, застал, как заметил современник, «Россию посреди повсеместного вооружения населения». Несмотря на категорический запрет правительства создавать ополчение вне губерний, указанных в манифесте, формирование частей ополчения в ряде районов не было прекращено. Так, на Украине, на Дону, в Прибалтике и в ряде губерний, не вошедших в округа, было призвано в ополчение свыше 90 тыс. человек.
Формирование ополчения 1 и 2 округов развернулось одновременно. Первым шагом в этом деле был созыв губернских дворянских собраний, на которых зачитывался манифест, и затем приступали к обсуждению подготовительных мероприятий по созыву ополчения. Решение губернских собраний служили затем руководством для местной уездной администрации и всего дворянства в организации ополчения. Проводниками в жизнь этих решений на местах были уездные дворянские собрания и предводители дворянства.
Правительство особое значение придавало роли Москвы в создании ополчения. «Доклад о составе Московской военной силы», утвержденный царем 14 июля, содержал основные правила формирования ополчения, которые легли затем в основу создания ополчения во всех трех округах. Во вступительной части этого «Доклада» предлагалось создать два комитета, первый из них «приступает к приему и записке всех подаваемых от всякого сословия объявлений о числе представляемых по воле каждого людей в состав военной Московской силы, вносит в книгу и ежедневно чрез военного губернатора подает государю императору записку, которая и доводится до общего сведения.
Второй комитет обязан был заниматься приемом, хранением и выдачей по требованию начальника ополчения денежных средств из фонда пожертвований. Пожертвования устанавливались в виде денег, оружия, продовольствия и других вещей, нужных ополчению.
В «Докладе» предусматривался штатный состав пеших, егерских и конных полков, устанавливался размер жалованья для воинов, унтер-офицеров и офицеров различной категории, порядок обмундирования и наград воинов и офицеров.
Личный состав комитетов ополчения был во всех губерниях 1 округа более или менее одинаков. Первый комитет, как правило, возглавлял губернатор. Членами комитета являлись: предводитель дворянства, «начальник ополчения и городской голова, представлявший купечество. В некоторых губерниях в комитет входили один или несколько уездных предводителей дворянства. Состав губернских комитетов избирался дворянским собранием.
Уездным предводителям дворянства предписывалось избрать из дворян двух чиновников: одного - для принятия Продовольствия, другого - для принятия оружия. По документам они назывались комиссарами. На них возлагалась,
Ответственность за обеспечение ратников всем необходимым, уездные комиссары контролировали поступление от помещиков по числу выделяемых ратников продовольствия, денег на жалованье ратникам и офицерам, обмундирования и вооружения. Затем они вели учет поступивших в виде пожертвований от населения денежных сумм и вещей.
14 июля правительством были утверждены штаты полков Московского ополчения: пеший полк состоял из 62 офицеров, 175 урядников, 26 писарей и 2400 рядовых, конный полк из 35 офицеров, 120 урядников, 14 писарей и 1200 воинов. Этот штатный состав пешего и конного полков послужил образцом и для других губерний России в качестве директивы дворянству.
Основным вопросом, стоявшим перед дворянством в связи с формированием ополчения, было установление нормы выделения ратников.
Я приведу примеры по трём округам.
Из решений дворянских собраний видно, что в губерниях I округа норма составляла четыре-пять ратников со 100 ревизских душ. Исключением была Московская губерния, где было решено представить в ополчение со 100 душ 10 воинов, вооруженных, обмундированных и снабженных провиантом и денежным жалованьем на три месяца. Командующим Московским ополчением был избран М.И. Кутузов. Но вследствие того что Кутузов был одновременно избран петербургским дворянством командующим ополчением 2 округа, начальником Московского ополчения стал генерал-лейтенант И.И. Марков. Московское дворянство должно было с 305 246 крепостных душ представить в ополчение свыше 30 тыс. ратников.
Вслед за московским, калужское дворянство приняло 21 июля решение: с 312 416 крепостных представить в ополчение не менее 15 тыс. ратников.
В Ярославской губернии было принято решение с каждых 25 крепостных взять по одному ратнику. В решении говорилось: «Составить из Ярославской губернии означенное ополчение с записанных по 6 ревизии помещичьих 282 950 душ с каждых 25 по одному человеку людей исправных, здоровых и благонадежных на службу, коих по губернии составит
11 318 воинов, в число оных предполагается быть конных 600 человек».
Каждого воина по примеру Московского ополчения надлежало снабдить обмундированием, провиантом и жалованьем на три месяца. Для этой цели дворянство обязалось внести с каждой ревизской души по 2 руб.
Тульское дворянство обязалось с 398 351 души представить в ополчение 15 936 ратников. Из них было решено сформировать два конных, один егерский и четыре пеших полка и одну артиллерийскую роту. Подобные решения были приняты в Смоленской, Тверской, Владимирской и Рязанской губерниях.
В середине июля в Петербургской и Новгородской губерниях было преступлено к формированию народного ополчения. 17 июля петербургское дворянство на губернском собрании приняло постановление о проведении сбора ополчения. На составление ополчения собрание решило поставить с каждых 25 ревизских душ одного воина при этом «предоставляя всякому на волю» увеличить число ратников, «не отрицая ничьего в сем ополчении участия. Воины, представленные в ополчение, должны быть обмундированы по образцу так называемого земского войска 1807 г. и снабжены трехмесячным продовольствием и жалованьем по 2 руб. на месяц. На содержание ополчения решено далее открыть добровольную подписку под надзором уездных предводителей дворянства. «А сверх того всякой, имеющий дом в С.-Петербурге (исключая купечества и мещанства, сделавших о пожертвовании свое распоряжение), должен одновременно внести по 2 процента с оценки, Городскою думою сделанной».
Дворянское собрание обязало губернского предводителя дворянства обратиться с призывом к владельцам предприятий вносить средства в фонд ополчения.
М.И. Кутузов, приняв командование ополчением, представил план проведения сбора ополчения и утвердил состав двух комитетов: Устроительного и Экономического. На первый комитет возлагались прием воинов, их обмундирование, вооружение и военная подготовка. На второй - организация материальных и денежных средств на содержание ополчения. Причем все меры, принимаемые комитетами ополчения, утверждались Кутузовым.
В соответствии с планом воины, выставлявшиеся помещиками, должны были быть доставлены в Петербург в течение двух недель со дня решения уездных дворянских собраний. В Петербурге отбор ратников производил сам Кутузов через Устроительный комитет. Воины, принимаемые в ополчение, «должны быть люди здоровые и способные действовать оружием против неприятеля».
Далее М.И. Кутузов предлагал немедленно «сделать по уездам расчисление, сколько с которого по числу владельческих душ следует к поставке людей в сие ополчение», с последующим представлением ему списков ратников от каждого уезда. Уездные предводители дворянства обязаны были представить особо списки дворян, добровольно вступивших в ополчение.
Были приняты меры по привлечению через градские думы в ополчение мещан и ремесленников. М.И. Кутузов стремился широко вовлечь в ополчение не крепостное население. Им было дано распоряжение о немедленном представлении сведения о числе мещан и цеховых ремесленников и «сделать ни мало не медля постановление о назначении числа людей, которые они из среды себя на защиту отечества выставить могут».
Списки на лиц, выделенных в ополчение, представлялись немедленно, а люди должны: были до вызова «оставаться в домах своих при обыкновенных их упражнениях».
Мещанское и ремесленное общества выставляли в ополчение по одному ратнику с каждых 10 душ. Городским думам предлагалось определить способ организации продовольственного обеспечения ратников (с момента зачисления их в ополчение), приобретения оружия путем покупки или пожертвований частными лицами. Для более успешной организации ополчения М.И. Кутузов приказал из войск, предназначенных для обороны Петербурга, «непременно отделить 80 человек унтер-офицеров, кои послужат первоначальным основанием вооружаемого ополчения, полагая на каждые 100 человек одного».
19 июля Устроительный комитет Петербургского ополчения принял постановление в Петербургской губернии составить восемь дружин. Однако по инициативе М.И. Кутузова вместо восьми в Петербургской губернии было сформировано 18 дружин и два конных полка. М.И. Кутузов не побоялся вопреки манифесту призвать всех желающих «из свободных людей, ремесленников и прочего состояния вступить» в ополчение и для записи явиться в Устроительный комитет ополчения.
Надо отметить, что все распоряжения М.И. Кутузова, а также Устроительного комитета Петербургского ополчения представляли собой прекрасный образец исключительной организованности и четкости для всех других губернских ополчений в деле формирования и обеспечения ратников.
Офицерский состав принимался в ополчение в чипе, в котором он состоял в отставке. А гражданские лица, не служившие в армии и не имевшие офицерских чинов, в ополчение принимались на следующих условиях: коллежские советники - в чине капитана, надворные советники и коллежские асессоры - штабс-капитана, титулярные советники - поручика, коллежские и губернские секретари - подпоручика, коллежские регистраторы - прапорщика.
Одновременно с Петербургским ополчением создавалось и ополчение Новгородское. 14 июля дворянское собрание определило сформировать ополчение численностью в 10 тыс. человек с участием городского населения. Тут же был избран Комитет ополчения. На собрании присутствовал знаменитый русский поэт Г.Р. Державин, предложивший избрать достойное руководство ополчением. В постановлении губернского собрания относительно условий приема ратников в ополчение рекомендовалось принимать в возрасте 18-45 лет и физически здоровых, годных к военной службе, «чтобы ратник был крепкого сложения и не имел чего-либо препятствующего в ходьбе».
21 июля дворянское собрание с участием уездных предводителей избрало командиров полков. Начальником Новгородского ополчения был избран генерал от инфантерии Н.С. Свечин. Прочие офицерские чины избирались дворянством по уездам. От губернского комитета были посланы чиновники, которые вместе с уездными предводителями дворянства, городничими и «лекарями» производили отбор воинов. Сборными местами всего ополчения были назначены города Новгород и Тихвин.
М.И. Кутузов, одобрив решение новгородского дворянства выставить 10 тыс. воинов, предложил «приступить немедленно к сбору помянутого числа на основании уже сделанного новгородским дворянством о приеме людей и одежде оных положения». Устроительному и Экономическому комитетам Петербургского ополчения было предписано осуществлять руководство формированием, вооружением и снабжением Новгородского ополчения, а «чтоб избежать впредь излишних переписок о подробностях формирования Новгородского ополчения - указывал М.И. Кутузов - и дабы не терять более времени, я признаю нужным, чтобы Устроительный комитет отрядил от себя на короткое время в Новгород члена своего г. генерал-майора Бегичева».
Для ускорения формирования Новгородского ополчения 29 июля 1812 г. оно было подчинено Кутузову. Кутузов предложил новгородскому губернатору П.И. Сумарокову «доставить сведение как о предполагаемом количестве воинов, так и о числе действительно собранных, о чиновниках, командующих в ополчении, и о успехе вооружением и формирования оного».
Дворянство, дав обещание выставить из числа крепостных крестьян в ополчение 10 тыс. воинов, неохотно выполняло его. Оно либо тормозило формирование дружин, либо стремилось взвалить это на другие слой населения, например на горожан и ремесленников. Это вызывало возмущение городского населения Новгорода, чуть не вылившееся в восстание.
К созданию ополчения в поволжских губерниях, входивших в III округ, было преступлено тотчас же по получении манифеста. 17 июля 1812 г. начальником ополчения III округа был назначен генерал-лейтенант II. А. Толстой, Нижний Новгород был избран местом пребывания штаба III округа ополчения. В течение августа в Поволжье на губернских и уездных дворянских собраниях принимались обязательства о выделении крестьян в ополчение, вырабатывались и обсуждались правила приема ратников, избирались командующие губернскими ополчениями и офицеры для службы в ополчении, создавались губернские комитеты ополчения.
Социальный состав ополчения был более или менее предопределен манифестами. В основной своей массе оно должно было состоять из крепостных крестьян и лишь частично, в небольшом размере, из городских жителей (от мещанских и ремесленных обществ). Участие в ополчении государственных и удельного ведомства крестьян, а также рабочих, прикрепленных к государственным заводам, исключалось. Среди помещиков возникали кое-где споры и возражения по поводу предлагаемой высокой нормы выделения ратников в ополчение, в особенности со стороны богатых помещиков, на долю которых приходилось по нескольку сот ратников. В конце концов, во всех шести губерниях III округа была установлена норма в четыре ратника со 100 ревизских душ.
Дворяне, освобожденные от выделения воинов, вносили 6 р. 50 к. с каждой ревизской души, числящейся за помещиком. Возрастной состав был повсеместно установлен от 17 до 45 лет, и только пензенские дворяне поставляли ратников в возрасте до 50 лет. Однако фактически эти возрастные нормы помещиками нарушались. В ополчение попадало немало престарелых.
Для проведения наиболее организованной подготовки к сбору ополчения П.А. Толстой утвердил общие правила сбора воинов для всех губерний III округ, Прием ратников в ополчение намечалось производить в уездных городах в присутствии предводителей дворянства и представителя от полкового или батальонного командира. Медицинский осмотр при приеме, как правило, не применялся. Принимали воинов больше всего «на глазок». «В приеме на рост не взирать, говорилось в правилах,- лишь бы не был карлик. Людей не раздевать, а спрашивать их, не одержим ли какими болезнями, в случае крайней необходимости прибегать к медицинской помощи для осмотра. Сомнительных возвращать для замены более крепкими».
Далее в этих правилах предусматривался порядок проведения сбора пожертвований, проводимого специальным Комитетом пожертвований. Денежные средства, поступавшие на местах, хранились в уездных казначействах. Все расходы на содержание ополчения производились только с разрешения командующего.
В течение первой половины августа командующий ополчением III округа П.А. Толстой посетил с инспекторской целью Кострому, Пензу, Казань и Симбирск. Из Костромы 7 августа он доносил царю: «Теперь нахожусь в Костроме, и сия губерния, видя пример готовности Нижегородской, конечно, потянется за оной...»
К концу августа заканчивалось повсюду выделение помещиками ратников и завершились приготовления к приему ратников, который начался в 3 округе с 1 сентября.
Так же считаю своим долгом упомянуть, что народные ополчения формировались и в неополчающихся губерниях, названия губерний и районов указаны в таблицах. В неополчающихся губерниях использовались такие же меры и стандарты, как и в ополчающихся губерниях.
Избрание Владислава не принесло желаемого мира. Напротив, страна оказалась на краю гибели. Государственность была разрушена. Общество расколото на враждебные лагеря. Преобладала рознь, сословный эгоизм. В сердце России, Москве, стоял польский гарнизон, страной управляло марионеточное правительство. Приближалась к концу осада изнемогавшего Смоленска. Свержение Шуйского освободило руки Швеции и королю Карлу IX, противнику Сигизмунда III. Шведы оккупировали значительную часть северо-запада Московского государства.
В эти трагические месяцы "безгосударева времени" огромную роль сыграла церковь и церковные деятели, прежде всего патриарх Гермоген и, позднее, настоятель Троице-Сергиева монастыря Дионисий. Патриарх возглавил национально-религиозную "партию" и первый, ссылаясь на нарушение польской стороной договоренности (прежде всего о православии государя и уходе "литовских людей" за пределы государства), освободил подданных от присяги Владиславу и призвал к сопротивлению.
Церковь дала национально-освободительному движению национальную идею - защиту православия и восстановление православного царства. Вокруг этой идеи началась консолидация здоровых сил общества. Решающую роль в освободительном движении сыграла земщина, традиции которой, как оказалось, не были подорваны предыдущими царствованиями. В 1610 - 1611 гг. земские миры выступили силой организующей и, по сути, государственной. Вдохновляемая позицией Гермогена, которого, по преданию, за неуступчивость польская партия уморила "гладом" в 1612 г., и грамотами Дионисия, земщина призывами "стояти заодно" объединила патриотические силы, привлекла, материально обеспечила дворянские служилые корпорации и отряды "вольных казаков" - реальную воинскую силу, которая могла изгнать интервентов.
В стране созревает идея созыва всенародного ополчения. Его созданию способствовала гибель в декабре 1610 г. Лжедмитрия II. Отряды "вольных казаков" под предводительством И. Заруцкого и князя Дм. Трубецкого присоединились к дворянским отрядам Прокопия Трубецкого и образовали I ополчение. Ляпунов, призывая всех воинских людей принять участие в освобождении Москвы, сулил "волю и жалованье".
Весной 1611 г. ополчение осадило Москву. Накануне его появления, в марте, в столице вспыхнуло восстание. Завязались упорные бои на улицах. Активным участником восстания стал Д. М. Пожарский, который был ранен и вывезен в свою нижегородскую вотчину. Не имея сил для того, чтобы справиться с москвичами, поляки выжгли часть посада.
Ополчение создало высший временный орган власти страны - Совет всея земли. Но действовал он нерешительно, скованный внутренними разногласиями и взаимными подозрениями. Для преодоления их по инициативе Ляпунова 30 июня 1611 г. был принят "Приговор всей земли", который предусматривал восстановление прежних крепостнических порядков.
"Приговор" не удовлетворил вольное казачество. Известия о расправе дворян над 28 казаками переполнили чашу их терпения. 22 июля 1611 г. вызванный на казачий "круг" Ляпунов был убит. Смерть Ляпунова привела к распаду I ополчения. Дворяне покинули подмосковный лагерь. Казаки Трубецкого и Заруцкого продолжили осаду, но они не были достаточно сильны, чтобы справиться с польским гарнизоном.
Эти события совпали с падением Смоленска в начале июня 1611 г. Сигизмунд III открыто объявил о своем намерении сесть на московский престол. Активизировали свои действия и шведы. 16 июля был занят Новгород, власти которого пошли на соглашение с Карлом IX, предусматривавшее избрание царем его сына, принца Карла Филиппа. Казалось, что страна на краю пропасти, - не случайно самые распространенные публицистические жанры этого времени - "плачи" о погибели Русской земли.
Но земщина вновь показала свою способность к возрождению. В провинциальных городах началось движение за организацию II ополчения. Осенью 1611 г. староста Нижегородского посада Кузьма Минин обратился с призывом пожертвовать всем ради освобождения Родины. Под его началом городской совет собирал средства для призыва ратных людей. Патриотический порыв, готовность к самопожертвованию охватили массы. Был избран и воевода, отличавшийся "крепкостоянием" и честностью, - Д. М. Пожарский. Последний вместе с "выборным человеком" Кузьмою Мининым возглавил новый Совет всей земли.
II ополчение не сразу выступило к Москве. Поднявшись вверх по Волге, оно более четырех месяце простояло в Ярославле, формируя свое правительство и основные приказы. Это необходимо было, чтобы, во-первых, опираясь на менее разоренные северные города, собраться с силами и средствами и, во-вторых, договориться с вольными казаками. Судьба Ляпунова была еще слишком памятна, чтобы игнорировать важность подобной акции.
Между тем в подмосковных "таборах" произошел раскол. Честолюбивый И. Заруцкий, мечтавший о самостоятельной роли, ушел со своими сторонниками в Коломну, где находилась Марина Мнишек и ее сын от Лжедмитрия II Иван, "воренок", по определению современников. Имя Ивана Дмитриевича, "законного" наследника престола, давало Заруцкому желаемую свободу действий и независимость.
В августе 1612 г. II ополчение пришло под Москву. В сентябре подмосковные воеводы договорились Москву "доступать" вместе и "Российскому государству во всем добра хотеть безо всякой хитрости". Было образовано единое правительство, выступавшее отныне от имени обоих воевод, князей Трубецкого и Пожарского.
В 20-х числах августа ополченцы отразили попытку гетмана Хоткевича освободить осажденный польский гарнизон. Однако поляки упорствовали. Им было жалко расставаться с богатой добычей, награбленной в Кремле. Сильно надеялись они на помощь короля. Но Сигизмунд III столкнулся с целым рядом трудностей: шляхта, в частности, опасалась самодержавных устремлений короля, усиленных ресурсами Москвы, ограничивала его силы. Сигизмунд III отступил. Польские и литовские люди изнемогали. 22 октября был взят Китайгород. Четыре дня спустя, 26 октября 1612 г. капитулировал кремлевский гарнизон. Москва была освобождена.
Государственное ополчение формально состояло из всего мужского населения, способного носить оружие, но не числящегося в войсках. Вплоть до изменения закона в 1911 г. оно могло созываться лишь «в чрезвычайных обстоятельствах военного времени». В 1911 г. «чрезвычайность» была снята, и государственное ополчение должно было собираться просто «в военное время». Новое «Положение об устройстве Государственного ополчения» было объявлено уже после начала войны - 23 июля 1914 г. - и после начала призыва ратников ополчения. Вследствие этого целый ряд нововведений не успел сказаться при формировании большинства ополченских дружин, а вступал в действие уже в ходе войны.
Столь масштабного формирования ополченских частей ранее Россия не знала: 658 дружин, 139 отдельных рот и 4 отдельные команды были сформированы только в 1914 г., в части государственного ополчения было призвано до 10 500 . Особое положение, в котором существовало ополчение в мирное время (т. е. фактически не существовало), стойкая психологическая ассоциация зачисления в ополчение как минование службы «под знаменами» с началом войны стала «выходить боком»: ратники (особенно 2-го разряда), порой просто не соотносили свой призыв с военной службой, неразрывно связанной со строгим соблюдением приказов и уставных требований. «Какие же мы солдаты, мы - ратники» - встречается в разбирательстве одного из дел о самовольной отлучке в Петроград для встречи Рождества 1916 г. Именно так мотивировал своего соучастника инициатор поездки к родным с театра военных действий в ответ на вопрос: смогут ли их счесть дезертирами. Об отпуске или прошении по начальству речь, естественно, не шла.
Сходное отношение к ополченцам было и в рядах войск. «Крестики», - как прозвали ополченцев за ополченские кресты, носившиеся на тулье фуражки над кокардой, - не воспринимались как солдаты: «Какие вы кубинцы?! Вы хуже всяких крестиков!», - бросил «в сердцах» нижним чинам 155-го пехотного Кубинского раздосадованный торговец.
Сравнение с ополченцами тут явно использовано, чтобы «задеть» оппонентов. В вопросе комплектования офицерскими чинами при формировании ополченских частей беспорядок был предусмотрен уже в законе. Ополченские части должны были нести службу в тылу, для которой особых боевых качеств не требовалось, и потому было сочтено возможным, чтобы к назначению на офицерские должности в частях ополчения допускались: а) на старшие командные (от начальников дивизий до командиров рот (сотен, батарей)) и штабные должности - «обязанные службою в ополчении лица офицерского звания, состоящие или состоявшие в военном чине, соответствующем должности, или одним чином выше, или же одним или несколькими чинами ниже соответствующей должности»; б) на младшие обер-офицерские должности - бывшие подпоручики и прапорщики, а также имеющие образование не ниже 2-го разряда и состоявшие на государственной службе или на службе по дворянским или общественным выборам.
Причем для последних была даже необязательна служба в войсках: достигнуть необходимого унтер-офицерского звания они могли «по прослужении в ополчении не менее двух месяцев»4 . За столь сжатый срок на действительной службе (1-2 месяца) призванный не успевал даже пройти путь от молодого солдата до рядового. Серьезного обучения в дружинах, формируемых из лиц, в большинстве своем не проходивших действительной службы, организовать было тоже невозможно: штатная численность офицерского состава, предусмотренная законом (но редко достигаемая в реальности) - 2 штаб-офицера и 12 обер- на батальон 4-ротного состава, каковым, по сути, и была ополченская дружина.
Характеризуя офицерский состав ополченских частей, прежде всего стоит остановиться на его возрасте. По закону срок пребывания основной массы в запасе (и соответственно, в случае мобилизации, предназначавшихся на пополнение армейских частей) составлял для обер- - 40 лет, для штаб- - 50. После этого возраста отставные офицеры, «способные по состоянию здоровья к строевой службе», перечислялись в ополчение, обер-офицеры - до 50 лет, штаб-офицеры и генералы - до 55 лет. По новому «Положению об устройстве Государственного ополчения» 1914 г. эти сроки были увеличены: для обер- - до 55, штаб- - до 60 и генералов - до 65 лет.
Таким образом, из сколь-нибудь профессионально подготовленных ополчение должно было довольствоваться 40-летними и принимаемыми на службу из отставки, т. е. лицами еще более старшего возраста или же покинувшими службу не по своей воле (это «добавит колорита» ополченским частям во время войны). Для добровольного состояния на учете в ополчении возрастные ограничения не действовали вообще, хотя ожидать даже элементарного знакомства с действующими уставами 60-летних обер- не приходилось.
Результатом формирования значительного числа ополченских частей, с одной стороны, и отсутствия в империи должного числа запаса, с другой, стало почти полное отсутствие в ополченских частях, даже несмотря на некомплект, «нормальных» . Закон предусматривал для назначаемых на офицерские должности в ополчение зачисление на службу: а) для лиц, имеющих соответствующий или больший должности чин - действительными чинами, которыми они могли бы быть приняты в войска; б) для имеющих низший чин - «чинами, соответствующими должности, зауряд, т. е. сохраняя этот чин, пока будут состоять в должности». Чины «зауряд» и составили едва ли не большинство ополченских командиров.
Особенно ярко это проявилось в дружинах, поступивших на формирование полков третьей очереди в 1915 г., когда прапорщики (и не только) - зауряд5 начали возвращаться в свое «первобытное состояние». И это несмотря на то, что уже в сентябре 1914 г. последовало разъяснение начальника мобилизационного отдела Главного управления генерального штаба начальникам (ГУГШ) штабов военных округов о том, что новое «Положение об устройстве государственного ополчения» отменяет категорию прапорщиков-зауряд, с тем, чтобы допускаемые к занятию младших офицерских должностей ратники ополчения оставались в прежнем звании. Правда, в апреле 1915 г. уже новому начальнику мобилизационного отдела ГУГШ пришлось разъяснять ровно то же самое, но уже дежурным генералам фронтовых штабов, и с оговоркой, что ратников, переименованных в заурядчины, «надлежит оставлять в сем звании, пока они будут занимать должности младших » .
В немалой степени «беспорядок» с назначениями случился от того, что «Положение» 1914 г. прописало строгую привязку ополченских должностей к чинам, при этом соотнеся с чинами и должностями в постоянных войсках и дав начальникам бригад государственного ополчения право «утверждения в младших офицерских должностях лиц, не имеющих офицерских чинов»7 . В ноябре 1914 г. военный министр решил упорядочить назначения на старшие должности в уже сформированных ополченских частях. В частности, командиры дружин, батарей, сотен, рабочих рот и саперных полурот и начальники штабов ополченских бригад должны были утверждаться Высочайшим приказом, а данные о них должны были поступить в ГУГШ.
Как оказалось, мера была не лишней, ибо начальство на местах или не имело возможности ознакомиться, или просто не спешило с выполнением требований из Петрограда. Яркий пример тому дает возникшая, возможно по чистой случайности, весной 1915 г. переписка между мобилизационным отделом ГУГШ и управлениями штаба Северо-Западного фронта. В сведениях, представленных в ГУГШ для составления Высочайшего приказа, в качестве начальника штаба 100-й ополченской бригады был показан подполковник Алексеев, но в рапорте о вступлении в должность он подписался «подполковник-зауряд». И.д. начальника мобилизационного отдела ГУГШ генерал-лейтенант П.И. Аверьянов попросил 26 апреля 1915 г. дежурного генерала штаба Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта «выяснить… сведения о чине офицера Алексеева» .
Запрос из Петрограда шел с пометкой «Спешное», но ответ от инспектора ополченских частей фронта, которому «по принадлежности» был переправлен запрос, был отправлен только 14 мая 1915 г. и по своему содержанию, наверное, превзошел все петроградские ожидания: «На должность начальника штаба 100 бригады государственного ополчения 4 марта с.г. допущен зауряд подполковник Алексеев, имеющий действительный чин прапорщика» . Ответное сообщение было весьма корректно: «На должность начальника штаба бригады государственного ополчения не могут быть назначаемы офицеры в чине ниже капитана. В виду сего, утверждение в должности начальника штаба 100-й бригады государственного ополчения прапорщика Алексеева Высочайшим приказом не представляется возможным».
После такого примера ясна все эфемерность «пожелания» Положения об устройстве Государственного ополчения «на должности начальников штабов бригад назначаются, по возможности, числящиеся в ополчении офицеры Генерального Штаба или окончившие курс в одной из военных академий»11. Вопреки расчетам мирного времени, многие ополченские дружины довольно быстро оказались на театре военных действий, а то и в боевой линии. Недостаточное количество и низкое качество офицерского состава стали проявляться все ярче. Начальник Ковенской ополченской бригады рапортовал 16 января 1915 г. коменданту крепости: «Уже неоднократно от вверенной мне бригады командировались ратники на пополнение рядов действующих на позициях частей. Ваше Высокопревосходительство поставили непременным условием спешно обучить и подготовить ополченцев, применительно к современным требованиям службы, дабы они явились вполне сознательными и обученными бойцами.
Выполнение этого требования сопряжено с большими затруднениями, так как в бригаде громадный некомплект с одной стороны, с другой же - имеющийся состав , призванных и принятых из отставки) не вполне удовлетворяет (за исключением нескольких человек) современным требованиям офицерской службы, предъявляемым к строевому офицеру, ибо эти офицеры покинули военную службу десятки лет тому назад и, конечно, совершенно отстали от строя и мало, если не совсем, знакомы с нынешними требованиями его. Кроме того, в составе бригады есть много , никогда не служивших в пехоте (артиллеристы, кавалеристы, моряки и служившие в местных инженерных войсках). Все это до некоторой степени лишает меня возможности более успешно подготовлять ополченцев, вполне удовлетворяющих условиям современного боя». Столкнувшись как с количественной нехваткой в ополченских частях, так и с их недостаточной профессиональной подготовкой, военное ведомство открыло ратникам ополчения в начале 1915 г. доступ в военные училища и школы подготовки прапорщиков пехоты. Успешность подготовки в 3-4 месяца полноценного офицера из столь сырого материала была сомнительна.
Учитывая же, что основную массу вакансий занимали представители постоянных войск, также испытывавших острейший некомплект офицерского состава, то решительно изменить ситуацию в ополченских частях эта мера не могла. К тому же значительная часть свежеиспеченных , произведенных в прапорщики армейской пехоты (или запаса армейской пехоты), в ополченские части не возвращалась. Приходилось искать «альтернативный вариант». Мотивируя необходимость создания школы для подготовки прапорщиков ополчения, инспектор частей государственного ополчения Юго-Западного фронта писал Главнокомандующему: «Некомплект в строевых ополченских частях фронта на должностях ротных командиров и младших превышает 700 человек.
Нет оснований надеяться на уменьшение этой цифры путем призыва еще не призванных из отставки , так как, во-первых, число это совершенно ничтожно и никакого влияния на уменьшение некомплекта иметь не может, а во-вторых, офицеры эти - преимущественно престарелые штаб-офицеры, добровольно числящиеся на учете, часто годные только на нестроевые должности. Между тем, по общему характеру личного состава ополчения (сравнительно высокий средний возраст, большой процент больных) некомплект будет продолжать возрастать»14. В немалой степени возраст и здоровье начинали подводить в самые ответственные моменты - при попадании в боевую линию. Начальник 84-й ополченской бригады генерал-майор Семенов рапортовал инспектору частей ополчения Юго-Западного фронта 26 апреля 1915 г., что «с выступлением трех дружин на передовые позиции, некоторые из стали официально заявлять о тех своих болезнях, которые позволяли им нести службу в тылу армии и которые совершенно лишают их возможности нести службу боевую».
Пожилые командиры дружин и рот просто не могли готовить своих младших знакомыми «с современными требованиями строевого образования», из призванных же из отставки прапорщиков ополчения, «возраст которых обычно не ниже 40 лет и доходит до 48-49 лет», инструктора и помощники тоже были слабые16. С сожалением можно также отметить тот факт, что некоторые отставные офицеры добровольно поступали на службу в ополчение исключительно с целью извлечь материальную выгоду. Расчет строился на том, чтобы, получив от казны положенное денежное довольствие, легко, вследствие своего расстроенного здоровья, быть забракованными и уволенными от службы. В октябре 1914 г. ГУГШ просил МВД указать губернским по воинской повинности присутствиям, дабы на добровольный учет в ополчение принимались только лица, способные по состоянию здоровья к несению ополченской службы.
Первым крупным ополченским соединением на театре военных действий стал XXXII-й армейский корпус, сформированный в составе 9-й армии Юго-Западного фронта в начале весны 1915 г. Сначала в его состав входили бригады государственного ополчения, которые 17 июня были переформированы в полки и дивизии (1-я и 2-я) государственного ополчения, а с 1 июля - в 101-ю и 102-ю пехотные дивизии, - первые дивизии 3-й очереди (401-408-й пехотные полки, соответственно). Также для вхождения в корпус была намечена формируемая 103-я пехотная дивизия. Все лето командир корпуса генерал-лейтенант И.И. Федотов, при поддержке командующего 9-й армией генерала-от-инфантерии П.А. Лечицкого, бился с вопросом укомплектования частей своего корпуса, которое должно было поступать через инспектора ополченских частей Юго-Западного фронта. Кавалер Георгиевского оружия, командовавший в начале кампании 11-й пехотной дивизией, И.И. Федотов прекрасно ознакомился с командирами ополченских частей и раз за разом был вынужден повторять начальству: «Больное место ополченских частей - полная отсталость и незнакомство офицерского состава и начальствующих лиц с современными требованиями не только тактики, но и уставов. Почему мною признается безусловно необходимым ныне иметь в каждом полку, по крайней мере, командира полка действительной службы».
Практика доказала справедливость этих слов и в полки 3-й очереди при их формировании стали прибывать недавние батальонные командиры первоочередных частей, фактически в одиночку начинавшие приводить доставшееся им наследство в «божеский вид». Возможно, после переформирования ополченских дивизий в пехотные отношения генерал-лейтенанта И.И. Федотова с ополченским начальством окончательно разладились, и тогда удар на себя принял начальник штаба XXXII-го корпуса генерал-майор Л.Л. Байков, также Георгиевский кавалер. Именно его «ответная» телеграмма, отправленная 16 июля 1915 г. одновременно инспектору ополчения Юго-Западного фронта генерал-лейтенанту Н.С. Глинскому (кстати, тоже кавалеру Георгиевского оружия), из чьего подчинения окончательно выходили части XXXII-го корпуса, и (в копии) дежурному генералу 9-й армии полковнику И.К. Лисенко дает, пожалуй, самое яркое представление о том, какие офицеры могли оказаться в составе боевых частей: «Сегодня для пополнения корпуса прибыл штабс-капитан 525 дружины Клоченко, имеющий от роду 67 лет, страдающий [от] экземы (так в тексте, возможно, эмфиземы? - А.М.) легких, имеющий слабое сердце, старческий маразм и всего лишь пять гнилых зубов нижней челюсти. Такой офицер признан корпусной санитарной комиссией к службе в строю негодным и отправляется обратно в ваше распоряжение.
Командир корпуса убедительно просит командировать лишь здоровых , а если таковых нет, то вовсе не посылать на пополнение , имея в виду, что согласно распоряжения фронта 32 корпус должен пополняться на общих с другими армейскими корпусами основаниях»19. В некоторое оправдание генерал-лейтенант Глинского можно привести лишь то, что некомплект в ополченских частях фронта был и вправду огромен: к 1 июня 1915 г. в наличии было 1282 офицера, некомплект составлял 832 человека, ожидавшийся выпуск из школы прапорщиков ополчения мог дать только 400 человек. С другой стороны, в XXXII-м корпусе на 12 июля 1915 г. недоставало 238 21, на фоне чего присылка подобного «укомплектования» вполне могла быть воспринята командованием корпуса как издевка. О качествах недавних «крестиков», волею начальства превратившихся в солдат, можно судить по письмам супруге полковника В.И. Николаева, коренного офицера 6-го стрелкового полка, получившего в командование один из полков 101-й пехотной дивизии (сам полковник думал, что ему предлагают полк 2-й очереди).
24 сентября 1915 г.: «Вот, наконец, я прибыл и вступил в командование своего милого 401-го Карачевского полка! Ну и импровизация! Сегодня был маленький бой, и полная неудача - побежали! Милостив Бог, что на сей раз мой полк был резервом и участвовали три лишь роты, которые не сделали ничего хорошего, но не сделали и плохого… А офицерство! Гордость полка и сливки - разного сорта прапорщики: училищные, школьные, так… разные, просто без специального и общего образования. Старшие офицеры - по разным причинам отставные: большею частью по болезням. Но - шутки в стороны: это сплошной ужас! Но возьму себя в руки, все свое приложу хладнокровие, всю силу умения! Одним словом, вооружусь терпением и поработаю! А потом, если не выдержу, уйду хоть на батальон». Желаемый для кадрового офицера момент - получение под свою команду отдельной части - едва не омрачился при виде новых подчиненных. Вдвойне тяжело это было для мягкого по натуре человека: «По натуре я не цукач и терпеть этого не могу; здесь же такая распу
щенность, расхлябанность, что иной раз очень жалею, что не умею цукать»23. За два месяца многое удалось сделать и командиру полка, понемногу ушло и «ополченское наследство». Тон письма от 1 декабря 1915 г. совершенно иной: «Завелось в полку новое офицерство, действительной службы, боевые, славные и веселые. Лицо полка меняется, даже прапорщиков четверых прислали из военного училища. Я ежедневно собираю всех, кто в резерве, веду с ними занятия, знакомлюсь сам с ними…»24 Усилия полковника В.И. Николаева не пропали даром: командуя своими карачевцами, он заслужил орден Св. Георгия 4-й ст. за бой 24 мая 1916 г., в начале наступления Юго-Западного фронта. Ставшая ясной к весне 1915 г. практически полная небоеспособность ополченских частей, вызванная во многом громадным некомплектом офицерского состава, с одной стороны, и серьезным отставанием основной его массы от современных требований - с другой, поставили перед фронтовым командованием проблему, к решению которой оно приступило ближе к лету. Расчет на пополнение офицерского состава ополченских частей выпускниками военных училищ и школ подготовки прапорщиков пехоты не оправдался: бывшие ополченцы распределялись преимущественно в армейские части.
В известной степени громадный ополченский некомплект на фронтах был снижен формированием дивизий 3-й очереди, что перевело значительное число ополченских бригад в разряд «постоянных войск», сбросив заботу об их укомплектовании с плеч инспекторов частей государственного ополчения фронтов. Несмотря на это ополченские дружины продолжают составлять значительную долю фронтовых частей. Сохраняется в ополченских частях и значительный некомплект офицерского состава (например, на Юго-Западном фронте - 570 человек, или 37 % от штатной численности25). Для преодоления некомплекта на фронтах учреждаются школы подготовки прапорщиков ополчения. Мера эта начинает довольно быстро приносить свои плоды, сокращая некомплект (так, на Юго-Западном фронте уже после первого выпуска (15 августа 1915 г.), несмотря на новые формирования и начало призыва ратников ополчения 2-го разряда, он сократился с 37 до 22 %26).
Условия приема в школы подготовки прапорщиков ополчения были идентичны установленным для школ подготовки прапорщиков пехоты, поэтому резонно, что в 1915 г. они столкнулись с аналогичными трудностями. Главным из них явилось малое число лиц с образованием в империи, с одной стороны, и продолжение действия отсрочек для его получения во время мировой войны - с другой. Широко распахнув двери для лиц, хотя бы окончивших 4-классные городские училища, а то и просто «всех с позиций» (без какого-либо образования), школьное начальство вскоре было вынуждено констатировать, что «значительный % из поступивших, вследствие малого образовательного ценза… оказался малоподготовленным или даже совершенно непригодным для будущей офицерской службы в частях войск»27. На втором курсе Школы подготовки прапорщиков ополчения Юго-Западного фронта «непригодные» составили свыше 1/5 набора. Несмотря на это весной 1916 г. усилиями фронтовых школ прапорщиков ополчения удалось не только справиться с некомплектом младших в ополченских частях, входящих в состав фронтов, но и ликвидировать группу «прапорщиков-зауряд», занимавших младшие офицерские должности, либо пропустив их через школы прапорщиков и узаконив их положение, либо отчислив от младших офицерских должностей, вернув в прежнее унтер-офицерское звание.
Эта мера, воспринимавшаяся некоторыми «лишенцами» как несправедливая, безусловно, нормализовала служебные отношения в ополченских частях. Абсолютному большинству исполнявших офицерские обязанности было предоставлено право узаконить свой статус, отбросив приставку «зауряд», пройдя соответствующее обучение. Справившись с некомплектом в ополченских частях, фронтовые школы подготовки прапорщиков ополчения стали принимать для обучения и командируемых из армейских частей, которые постепенно начинают составлять большинство обучаемых. Постепенный отказ от привлечения частей государственного ополчения для активного использования в боевой линии вернул их к более «традиционной» службе на фронтах: с 1916 г. основное место ополченских частей в тылу (фронтовом или «глубоком»), с выполнением вспомогательных задач небоевого характера. Грандиозный масштаб разразившейся в 1914 г. мировой войны привел к привлечению в состав войск действующей армии ополченских формирований, которые ни по своей подготовке, ни по выучке, ни по качеству офицерского состава не могли сыграть серьезной роли. В ходе самого тяжелого для русской армии 1915 г. значительные усилия ушли на укомплектование офицерского состава ополченских частей, находящихся на фронте. Проблема эта в начале 1916 г. была решена, когда части государственного ополчения уже перестали активно участвовать в боях. В то же время части «постоянных войск» все более и более по своему составу напоминали ополченские формирования, чему немало поспособствовало исчерпание еще в первые месяцы войны обученного запаса армии и начало ее пополнения ратниками 1-го, а с осени 1915 г. - и 2-го разряда.
А.В. Марыняк (Москва)